— А в Кишиневе есть другие Авербахи? Вы никого не знаете?
— Нет, — сказала она. — Никаких Авербахов здесь нет.
— Точно?
— Евреев здесь не так много, все друг друга знают. Здесь нет Авербахов. Но вы можете сходить на кладбище. Авербахи все там.
Кладбище было огорожено неприметной полуобвалившейся стеной; мы долго искали ворота — тяжелые и ржавые. Перед воротами стояла абы как припаркованная древняя „дакия“; сидящий в ней водитель курил, не спуская глаз с ворот, словно поджидал возвращения дружков с дела. Юлиане пришлось позвонить в звонок, после чего какой-то мужчина в высоких резиновых сапогах отпер ворота и сразу же растянулся на скамейке неподалеку от входа — похоже, с нее он и встал. Стоял чудесный солнечный день; ясный воздух был пропитан приятным запахом летних цветов; птицы самозабвенно щебетали. Мы шли по узкой дорожке, в тишине, под зеленым сводом, рассеивавшим лучи солнца. Дорожка раздваивалась: одна ее ветвь упиралась в стену, а другая расширялась и уходила куда-то в глубь кладбища; по ней мы и пошли. Некоторые надгробия сплошь заросли плющом и пышным кустарником; некоторые были полностью разрушены; многие — осквернены: явно отколотые молотком углы, разбитые или расколотые фотографии умерших. Были и аккуратные, ухоженные надгробные плиты; они казались нереальными, словно на самом деле были ухудшенными копиями прежних, неповрежденных. На некоторых надгробиях было что-то написано по-русски — что, я не мог разобрать.
— Что здесь написано? — спросил я у Юлианы.
— Это значит: „Не разрушать. Еще осталась семья“, — ответила она.
Птицы вдруг разом замолкли; снаружи не просачивались никакие звуки, да и никакого „снаружи“ здесь не существовало. Листья на кустах не шевелились, даже когда мы их задевали; сухие прутики не трещали под ногами; лучи солнца сюда не проникали, хотя свет был — густой, тяжелый. Это был мир мертвых: Розенберги, Мандельбаумы, Бергеры, Мандельштамы, Розенфельды, Спиваки, Урманы, Вайнштейны. Мне непросто было вспомнить, как давно я уехал из дома и как здесь очутился. „Хойди-хо, хойди-хать, что мне делать? — Умирать!“ Рора то отставал, то забегал вперед, ни на секунду не прекращая фотографировать. Я не понимал, что его заинтересовало, что тут можно снимать, почему им не овладело чувство беспомощности и безнадежности.
— Ваши родные тоже здесь похоронены? — спросил я Юлиану.
— Не все, — сказала она. — При советской власти большую часть кладбища переделали под парк.
Откуда-то издалека нас позвал Рора. Мы с Юлианой пошли на его голос, но заплутали, а потом и вовсе потеряли друг друга. Внезапно я оказался один среди сборища склепов: сорванные с петель двери, зияющая пустота дверных проемов, пещерная тьма в провалах полуразрушенных стен. Голоса Юлианы и Роры звучали где-то вдали, а затем и совсем умолкли. От меня прежнего мало что осталось; я пристал к другим берегам. Я не мог вспомнить, сколько прошло времени с тех пор, как я оставил Чикаго и Мэри. Я не мог вспомнить ее лицо, как выглядит наш дом, каким было то, что мы называли „нашей жизнью“.
Мэри, почему ты бросила меня одного в темной чащобе? Я любил тебя, потому что мне некуда было податься. Мы жили в браке, поскольку не представляли себе, что друг без друга делать. Ты меня никогда не знала и ничего про меня не знала: ты не знала ни того, что во мне умерло, ни того, что продолжало жить незримо.
На этом кладбище, среди заброшенных могил, закончился какой-то этап моей жизни; началось время скорби. Теперь я могу сказать — мало есть того, о чем не приходится скорбеть.
Юлиана пронзительно, испуганно закричала; тут же и Рора закричал, и я присоединился к хору их голосов. Со страхом подумав, что от наших криков мертвые могут встать из могил, я поспешил выбраться на дорожку. Мы все трое встретились около большого надгробия, на котором были безжалостно сбиты древнееврейские буквы, а внизу было написано по-русски: Авербах Исаак, 1903–1913. Тут лежал человек, о котором я никогда ничего не узнаю; его жизнь полностью поглощена смертью. Вот так-то. Щеки Юлианы пылали от волнения, капля пота упала с виска и покатилась дальше, вниз по скуле. Она улыбнулась мне — я еле сдержался, чтобы не поцеловать ее, эти теплые живые губы, эти потемневшие глаза, это бледное лицо. „Это же я, — мелькнула мысль. — Эта женщина — я“. Где-то наверху, над кронами деревьев, громыхнуло — собиралась гроза. Рора сфотографировал Юлиану, потом меня, а потом — нас вдвоем.
Читать дальше
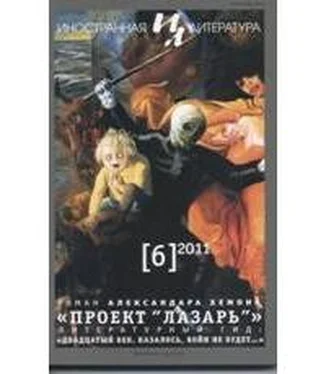



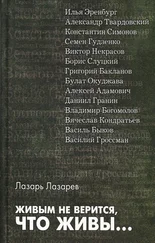

![Андрей Земляной - Проект «Оборотень» - Проект «Оборотень». Успеть до радуги. День драконов [сборник litres]](/books/384831/andrej-zemlyanoj-proekt-oboroten-proekt-oborot-thumb.webp)
![Лазарь Лазарев - Шестой этаж [1993]](/books/394571/lazar-lazarev-shestoj-etazh-1993-thumb.webp)
![Лазарь Лагин - Детская библиотека. Том 46 [Лазарь Иосифович Лагин]](/books/401001/lazar-lagin-detskaya-biblioteka-tom-46-lazar-io-thumb.webp)

