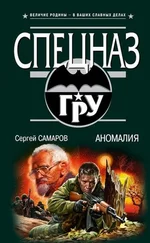Таракану по части разведения костров в самом деле не было равных. И если у Матвея спички гасли одна за другой, у Таракана газета мгновенно и жарко занималась, от веток, пусть даже и отсыревших, поднимался густой, смолистый чад, и они принимались жизнерадостно потрескивать.
Площадку в полтора квадратных метра они расчистили и откопали до самой твердокаменной земли. Соорудив из веток что-то вроде прямоугольного фундамента, Таракан положил на них газету, а над газетой стал выстраивать индейский вигвам.
— Да куда ты с такими дубинами-то? — прикрикнул он на Матвея, который было сунулся к костру с довольно длинной и увесистой палкой. — Ты бы сразу бревно приволок. Пусть сначала маленький разгорится. — Таракан чиркнул спичкой и подпалил газету сразу с четырех углов. Опустился перед своим вигвамом на колени, стал подсовывать мелкие веточки.
Когда костер занялся, разгорелся, Таракан взял пару мелких веток, раскрыл перочинный нож и изготовил из них что-то вроде маленьких рогатин. Затем воткнул рогатины в снег, извлек из портеля закопченную эмалированную кружку, зачерпнул в нее немного снега, продел в ее ручку прут и подвесил над костром на рогатинах.
Усевшись на очищенный от снега древесный ствол, закурили. Скоро талая вода в подвешенной над огнем кружке забурлила. Таракан осторожно взялся за концы прута и снял кружку с рогатин.
— Придержи! — крикнул он Матвею. И Матвей рукою в варежке придержал раскаленную дымящуюся кружку. Поставили в снег. В кипяток Таракан бросил горсть чайной трухи.
— Ну, вот, а теперь гвоздь программы, — объявил Таракан, хлопая себя по ляжкам. — Сейчас тебе буду картины свои показывать. Ты гордись, Камлай, ты — вообще первый человек, которому я показываю такое. — Из портфеля он извлек красную картонную папку, на ноздреватой крышке которой было оттиснуто — «Папка для бумаг». Тесемки на папке завязаны были таким хитроумным узлом, который никто, помимо самого Таракана, наверное, не мог бы развязать.
То, что Таракан рисовал восхитительно, Матвей знал давно. Ни в какую специальную школу Таракан не ходил — ему этого и не нужно было. Он научился рисовать гораздо раньше, чем говорить. Карикатуры в «Крокодиле», изображавшие американских капиталистов в виде уродливых зеленолицых стариков в огромных цилиндрах и с козлиными бородами, принадлежали карандашу таракановского отца. Да, впрочем, и у самого Таракана карикатуры получались не хуже. Чуть-чуть преувеличив, укрупнив, раздув, выпятив и обнажив какую-нибудь анатомическую подробность, особенность в строении лица или фигуры, Таракан за три минуты достигал слезоточивого комического эффекта: чего стоил один портрет Люсьены Кирилловны с носом в виде солдатского сапога и необъятным бюстом, Люсьены, вооруженной садовыми граблями и с этими граблями нападавшей на двух фашистских солдат. К голове Люсьены Таракан пририсовал как бы облачко пара, и в это облачко заключил слова, которыми встречала фрицев отважная учителка: «Кыш! Кыш, проклятые!»
Но вот то, что было явлено Матвеевым очам сейчас, то, что было спрятано внутри картонной красной папки… о, это никакого комического эффекта не предусматривало! На альбомных листах, которые поочередно извлекал из папки Таракан, были… голые, но не бабы. Это были наяды, нимфы, гурии, но никак не бабы. Возлежащие во всем нагом великолепии обкатанных, словно речная галька, тел. Перед Матвеем друг за другом представали их отважно торчащие груди с темными овалами сосков, полураскрывались их тугие, спелые бедра; бесконечно нежные теневые выемки на изящных ягодицах будто из отполированного серебра порождали в нем не знакомое телесное возбуждение, а какое-то еще ни разу не испытанное трепетное чувство.
Как раз свето-теневые блики Таракану особенно удались… Вот одна, устыдившись, скрестила руки на груди, и полускрытые тяжелые всхолмия искусный карандаш рисовальщика чуть придавил и расплющил. Вот другая лежит, запрокинув голову и раздвинув согнутые в коленях ноги, открывает матвеевскому взору нечто… петушиные подвески, лепестки, зияние овальной ранки на стволе вишневого дерева (той самой, из которой вытекает полупрозрачная смолка, и если застывшую эту смолку положить на язык, ощутишь легчайший привкус, такой слабый и жалкий, что ни сладким, ни кислым его назвать нельзя). И настолько достоверен, убийственно убедителен вид вот этого инопланетного цветка, что Матвея на секунду пронзает дрожь почти нестерпимого отвращения…
Читать дальше