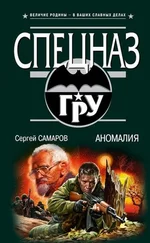— Ты бы сделал что-нибудь, Толя, — вдруг с тяжелым, страдальческим вздохом вступила в разговор мать. — Поговорил бы с людьми на этот предмет. Неужели мальчику два года из жизни своей выкидывать?
— Э-э, нет! Я даже и пальцем не пошевелю.
— Но это же совершенно не его, — возражала осторожно мать. — Он артист с тонкой душевной организацией. Ты не задумывался, как это может сказаться на всей его дальнейшей судьбе?
— Кишка у него тонка, а не душевная организация! — прикрикнул отец. — А что до судьбы, пусть сам свою судьбу делает, а не так, как ты хочешь — чтобы кто-то за него его судьбу делал. — Отец швырнул вилку в тарелку и откинулся на стуле.
За завтраком он ничего почти не ел, поковырял сочно-желтый, пышный омлет, но в тарелке осталось примерно столько же, сколько и было. И эта совершенная нетронутость яства, в которое мать вбухала не менее полудюжины яиц, до крайности встревожила Матвея.
Из своей «полуведерной» кружки — другой посуды он не признавал — отец тянул горячий, очень сладкий чай с обычным, впрочем, хорошо знакомым Матвею клекотом.
Доклокотав, добулькав до чистого донца, отец отставил кружку.
— Ну, что, Матвей, — сказал он опять не своим, глухим, ушибленным голосом, — давай прощаться, что ли?
— Чего прощаться-то? — недовольно проворчал Камлаев и даже как бы негодующе посмотрел на отца: чего это, мол, ты такое, старик, городишь?
— Уезжаю я, брат, в далекие края. Теперь увидимся мы с тобой скорее всего не скоро. Не знаю даже, когда и увидимся.
— Куда это ты уезжаешь? — опять пробурчал Камлаев, упрямо не желая принимать столь решительного расставания.
— В больницу, брат. Посмотрим, к чему нас там врачи приговорят. Ты это… давай людьми поменьше пренебрегай. Заботься о матери. Звони ей на ночь глядя… хоть иногда… говори, где находишься. Ну чего ты встал? Сюда иди… — Тут вдруг в отцовском голосе возникло нечто жалкое, похожее на хныканье. И было это так несвойственно отцу, настолько для отца неприемлемо, что Камлаеву даже противно стало. И обнимать вот этого жалкого старика совсем ему не хотелось, как не хотелось бы обнимать чужого, незнакомого человека, от которого к тому же веяло непростительной слабостью.
Но Камлаев, покорно поднявшись, с деревянной бесчувственностью отправил неизбежный ритуал, отбыл необходимую повинность прощания, прижался к гладко выбритой отцовской щеке и обнаружил вдруг, что в нем, в Камлаеве, еще не успело возникнуть такого чувства, с которым он мог бы вот этого совершенно неизвестного ему и нового отца принять. От большого, могучего тела отца исходил по-животному честный страх, и Матвей не находил в себе такого органа чувств, чтобы этот страх отцу простить, как если бы отец и в самом деле непозволительно опустился до животного состояния.
Мать уехала вместе с отцом, а Камлаев, оставшись один, бездельно блуждал по комнатам, лузгал тыквенные семечки и все никак не мог избавиться от раздражающего беспокойства, которое осталось от прощания с отцом. И Камлаев боялся в этом признаться, но на самом деле он испытывал как будто даже злость на отца. В то время, как его молодые мускулы жили с такой неукротимой жадностью к всякой работе, в то время, как он ощущал себя дрожащей на сворках борзой, в то время, как планов у Матвея было громадьё, отец каким-то странным, необъяснимым образом стеснял, отягощал Камлаева, сковывал свободу ненасытной, молодой, неиссякаемым ключом бьющей жизни… Затрещал лихорадочно целым обвалом звонков телефон, и Камлаев рванулся к нему как к просвету, как к выходу… это Ленька Голубев звонил, кричал ему в трубку, что через два часа они Камлаева ждут…
Вместе с Викой они продолжили искать уединения, И Матвей не сомневался в одинаковости их дальнейших намерений, но обе комнаты и даже ванная оказались занятыми. Вдруг распахнулась в темном коридоре дверь в большую комнату, и в сердито-сморщенные лица свежеиспеченных любовников ударил яркий свет; в «предбаннике» началась беспорядочно-пьяная свалка и, разделяя их, разлучая, к выходу повалил галдящий и хохочущий народ. Входная дверь с грохотом отвалилась, забухали ноги, и вся хохочущая кодла с гвалдом покатилась вниз по лестнице. Все это походило на мгновенный камнепад… Камлаев потащил Вику за собой и выбрался на лестничную клетку за пьяной компанией следом. Он Вику увлек, однако, не вниз, а вверх; грохот, буханье шагов и идиотские взрывы смеха очень скоро затихли внизу, весь этот шум как будто языком слизала нижняя, подъездная дверь; он притянул к себе Вику за плечи, и тут же они сызнова приладились друг к другу в никогда не приедающемся ритуале поцелуя. На этот раз он стал спускаться губами вниз по ее горячей шее, и руки его подхватили Вику под ягодицы, нащупывая и разрывая нечто, что оказалось поясом с резинками. И вот когда он уже достиг сокровенного устья и когда его пальцы коснулись тонких ускользающих волосков, Вика вдруг сжалась, закаменела и мертвой хваткой сдавила камлаевскую кисть, его руку удерживая, не пуская.
Читать дальше