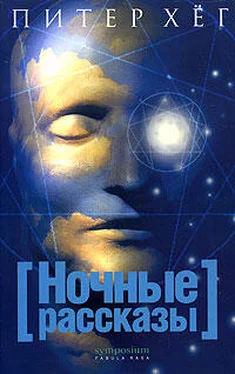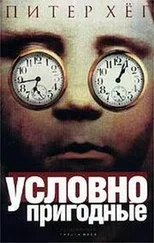По воспоминаниям девушки, ей было девять лет, когда мать решила, что она уже достаточно взрослая, чтобы принимать мужчин. Конечно же, девять лет — это маловато, но она тем не менее ни в чём не упрекает мать, та умирала, так что для них обеих речь шла о жизни, а когда речь идёт о жизни, то не о чем особенно говорить и не стоит ни в чём упрекать друг друга. И оказалось, что это не так больно, как можно было представить. Она даже не сердилась больше на мужчин, говорила она, она их простила.
«Где же конец всему этому?» — спросил Андреас, он, конечно же, имел в виду, когда же она закончит свой рассказ и избавит его от этого нежелательного вторжения действительности, и он услышал, что произнёс свой вопрос неузнаваемым, хриплым голосом, принадлежащим кому-то другому, тому незнакомому человеку, которым он стал, пока слушал её историю.
И вот её мать умерла, и вскоре после этого, в день, предположительно, её четырнадцатилетия, один мужчина попытался причинить ей вред. Она лежала под ним, чувствуя, как калечат её тело, и тогда она подумала «нет, я должна жить», и она обхватила его член, чтобы он не мог вырваться, а потом отрезала его бритвой, и в это мгновение она перестала ненавидеть мужчин, в это мгновение она поняла то, что когда-то слышала от армейского капеллана, она возложила руку на голову этого мужчины и отослала его в пустыню, чтобы он искупил всё то, что другие сделали с её матерью и с нею. [18] Ср. Левит 16: 9-10, 20–22.
Что последовало потом, она тогда Андреасу не рассказала, но рассказала позднее, и это была уже история о том, как ей удалось выжить на улице, пересечь границу, чтобы вернуться на родину своей матери, найти приёмных родителей, и о том, как в её жизни наконец-то забрезжил свет.
А в тот день она сказала Андреасу, что не надо так смотреть на неё, теперь ей хорошо, теперь она совсем здорова и не вспоминает те времена. И рассказала ему об этом только для того, чтобы он всё понял. Понял, что ни один мужчина никогда не сможет прикоснуться к ней таким образом.
«Но на сцене я касаюсь тебя», — возразил Андреас.
«Да, — ответила она, — на сцене, когда горят софиты, и в зале полно людей, и мы танцуем именно так, как и должны танцевать, тогда я уверена, что не произойдёт ничего неожиданного, и там мы вполне можем любить друг друга. Когда мужчины хотели выключить стоявшую у кровати матери лампу, она говорила нет, пусть горит, потому что я ламповая шлюха. Точно так же и со мной, Андреас, я ламповая шлюха, только когда зажигаются софиты, это возможно».
Здесь Якоб прервал на минуту своё повествование, чтобы отхлебнуть из котелка. Наступила ночь. Чувствовалось, что где-то в пространстве притаилась луна, но небо было затянуто тучами, словно мир (который есть Аллах, ведающий, мудрый, милосердный) хотел сокрыть двоих мужчин и их историю.
— Я думаю, Руми, — сказал Якоб, — что я могу дать тебе, рассказывая эту историю.
— Путешествие, — серьёзно ответил мусульманин. — В это мгновение я нахожусь с тобой на той сцене, о которой ты говоришь.
— Ты уверен, что это именно та сцена? — спросил Якоб.
— Не стоит, — заметил мусульманин — тратить силы на вопросы, на которые нет ответа, особенно когда мы находимся в середине истории.
— Ты прав, — сказал Якоб. — Я тоже так себе говорил, размышляя тогда о том, понял ли Андреас её рассказ. А время показало, что он понял его лучше и глубже, чем кто-либо другой смог бы понять.
— Один из самых любимых в Дании балетов называется «Сильфида», это одно из тех представлений, которые публика приходит смотреть, потому что получает там все четыре столпа веры одновременно. В балете рассказывается о молодом человеке, влюблённом в одну женщину, тронуть которую он не может, потому что она что-то вроде ангела, который лишится жизни и своих крыльев, если какой-нибудь мужчина попытается завладеть ею.
Это совершенный балет, и, само собой разумеется, у Андреаса в нём была роль молодого героя. Балету этому уже сто лет, но, когда он танцевал, всем казалось, что балет поставлен специально для него. Хотя преклонный возраст балета всё же сказывался. Сколько его ни подправляли, стараясь сделать современным и естественным, в нём всё равно оставалось что-то безнадёжно старомодное, всё равно было ясно, что время его прошло. Когда девушка вошла в нашу с Андреасом жизнь, из этого балета исчез возраст, растворился, словно туман на солнце, потому что девушка сама была таким неземным существом, проворная как кошка, милая как ангел, добрая как Дева Мария, и, главное, совершенно недоступная.
Читать дальше