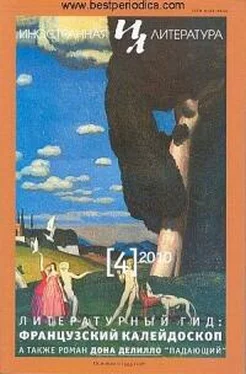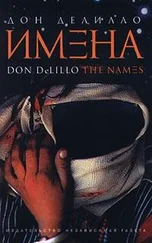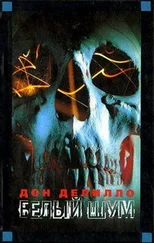Пальцы ничего не значили, если не были обрамлены босоножками. Босоногие женщины на пляже были прекрасны не своими ступнями.
Он накапливал бонусные мили на кредитных картах и летал в города, которые выбирал по таблице расстояний, по их отдаленности от Нью-Йорка, — просто чтобы использовать мили. Это отвечало какому-то его внутреннему принципу — идее кредитного лимита на чувства.
Иногда попадались мужчины в сандалиях с открытыми мысами — на улицах, в парках, — но их пальцы Ромси не пересчитывал. Пожалуй, была важна не только процедура подсчета — женщины тоже кое-что значили. В этом Ромси признавался. Вообще признавался во всем.
В постоянстве его потребностей был какой-то мерзкий шарм. Кейту открывались темные стороны, странные ракурсы, неискоренимые изъяны, но одновременно пробуждалась симпатия, редкостный трепет встречи с родной душой.
Прогрессирующее облысение придавало Ромси кроткий и меланхоличный вид: этакий печальный мальчишка, который нехотя повзрослел.
Однажды они подрались — на льду, игроки одной команды, обознались в массовой схватке, — и Кейта это позабавило, но Ромси негодовал, обвинял Кейта, срываясь на визг, уверял: «Ты меня еще пару раз двинул, когда уже сообразил, кого колотишь». — «Ничего подобного», — сказал Кейт, но сам подумал, что все возможно: раз уж драка завязалась, что с собой поделаешь?
Они возвращались к башням, а вокруг роились люди, толпы двигались волнами, пересекались под прямым углом.
— Ну хорошо. А если пальцы в сумме не всегда дают десять? Представь: едешь в метро, сидишь, глядя в пол, сказал Кейт, и рассеянно скользишь взглядом по вагону, и замечаешь босоножки, и считаешь, и пересчитываешь еще раз, а пальцев девять, или одиннадцать.
Ромси унес этот вопрос с собой в свой кабинет в поднебесье и переключился на менее увлекательные темы — деньги и недвижимость, контракты и свидетельства о праве собственности.
На следующий день он сказал:
— Я предложу ей выйти за меня замуж.
А погодя добавил:
Потому что пойму, что исцелился, словно в Лурде, и могу больше не считать.
Кейт уставился на нее, сидя за столом напротив.
— Когда это случилось?
— С час назад.
— Эта ее собака… — сказал он.
— Знаю. Я точно ума лишилась.
— А что теперь? Увидишь ее в подъезде, и что?
— Извиняться не стану. И всё тут.
Он сидел и, глядя на нее, качал головой:
— Ты не расстраивайся, но, когда я только что поднимался по лестнице…
— Можешь не говорить.
— Музыка играла, — сказал он.
— Наверно, это значит, что победа за ней.
— Не громче и не тише.
— Победа за ней.
Он сказал:
— А может, она умерла. Валяется там у себя мертвая.
— Жива она или мертва, победа за ней.
— Эта ее собака…
— Знаю. Я совсем спятила. Слышала свой голос со стороны. Как чужой.
— Я эту зверюгу видел. Наш мальчик ее боится. Ни за что не признается, но боится.
— Что за порода?
— Ньюфаундленд.
— Не собака, а целый остров, — сказала она.
— Ты везучая.
— Везучая и чокнутая. Грегор.
Он сказал:
— Выкинь эту музыку из головы.
— Грегор, имя кончается на «гор».
— А моя фамилия — на «кер». Выкинь музыку из головы, — сказал он. — Она ни к чему не подстрекает, ничего не проповедует.
— Но звучит в подъезде, как звучала.
— Звучит, потому что эта баба мертва. Лежит мертвая. И огромный пес ее обнюхивает.
— Мне надо больше спать. Вот что мне надо, — сказала она.
— Огромный пес нюхает промежность покойницы.
— По ночам я обязательно просыпаюсь, когда раньше, когда позже. Голова работает бесперебойно. Не могу выключить.
— Выкинь из головы музыку.
— Мысли какого-то чужого человека — не могу признать их своими.
— Он не спускал с нее глаз.
— Выпей какую-нибудь таблетку. Твоя мать в них разбирается. Так люди и засыпают, с таблетками.
— С таблетками, которые пьют люди, у меня сложные отношения. Я только хуже дурею. Тупею, начинаю все забывать.
— Поговори с матерью. Она в них разбирается.
— Не могу отключиться, не могу заснуть снова. Целую вечность не могу. А там и утро, — сказала она.
Истина открывалась в процессе медленного и неотвратимого угасания. В кружке каждый жил с сознанием этого. Труднее всего Лианне было смириться с неизбежным в случае Кармен Г. Кармен постоянно как бы раздваивалась: одна Кармен сидела на стуле, с каждым занятием все больше теряя задор и индивидуальность, что-то растерянно мямля, а другая — гораздо моложе, изящнее, чертовски обворожительная (такой ее воображала Лианна), страстная женщина в пору безрассудного расцвета, остроумная и прямодушная, кружилась в танце.
Читать дальше