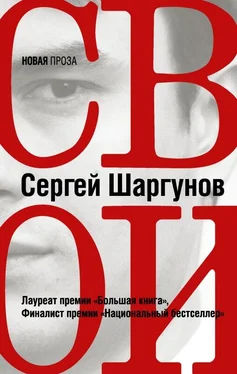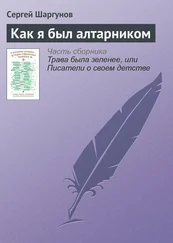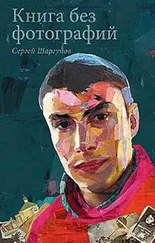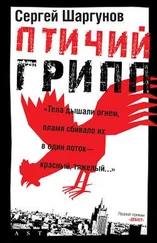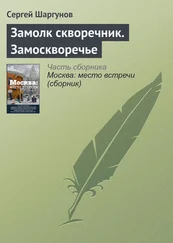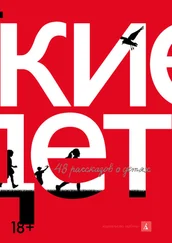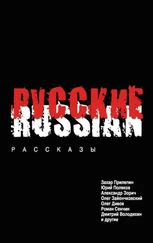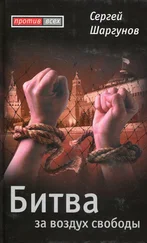Северное небо сине-стеклянное, неживое. Сочная зелень между неровными зубищами камней.
Опускают гроб около ямы на деревянные табуреты.
Белобородый протоиерей, дрожа морщинистой рукой и блестя серебристой ложечкой, крестообразно посыпает ткани рыжеватой землей.
Бледные кисти покойника выпростаны. Кроме них – ничего. Как будто замело человека. И лицо ему замело. Хочется приподнять этот возду́х, этот хлопковый плат, и заглянуть напоследок: как ты там? А нельзя. Считается, священник во время отпевания предстоит Богу, и поэтому не положено видеть лицо.
Медный крест вложен в заиндевелые пальцы, медное Евангелие на груди.
Сугроб посреди лета.
Мне не повезло, один-одинешенек, а у Сретенских, как обычно бывает в семье священника, ребят хватает: два поповича и две поповны, все погодки, родились друг за дружкой.
Мне двенадцать. На зимние каникулы отправили сюда, в вологодскую деревню, где их отец – настоятель храма, возле которого стоит большой деревянный дом, а вокруг темнеет ельник.
Сюда же приехали Охапкины из Ярославля: батюшка, матушка, двое сыновей и дочка.
Днем мы бьемся и возимся возле снежной крепости на берегу замерзшей реки Шарженка.
Эту чудо-крепость построил глыба к глыбе, ловко вытесав вход и бойницы, старший из детей Сретенских, подросток-великан Никита, о котором говорили: «золотые руки». Он был в любую погоду напоказ без варежек, с пухлыми пугающими пятернями, из-за цыпок похожими на сырники в румяной корочке, иногда в брусничной кровке.
Помогали ему мы все вместе: катали снежные шары, сгребали и приминали снег и тоже ходили к полынье, откуда носили дымящуюся воду. Из ведер ее переливали в лейки и ровно орошали широкие поверхности.
Никита стал скульптором (в основном кладбищенским) и краснодеревщиком, любит крепко выпить и не знает отбоя в заказах, потому что хорош в своем деле.
Он же поставил поодаль трех богатырей, голыми пальцами мастера вылепив из снега, и закрепил водой. Эти ладные одинаковые фигуры, похожие чем-то на него, расцветила гуашью его сестра Дуся. Витязи стояли уверенно, карауля покой речного льда, золотясь кольчугой, щитами, мечами, шлемами, одинаково румяные и синеглазые, с тремя бородами: черной, желтой и снежно-седой.
Дуся-Евдокия, с детства рисовавшая, стала послушницей в далеком бурятском монастыре, где она пишет и реставрирует иконы. Она раскрасила и крепость, не жалея краски, в багряные и лазурные тона, позолотив два шара, намертво приклеенные к стенному валу как бы с намеком на купола (кресты ставить не стали, был бы перебор).
Вот внутри этой крепости и держали оборону Сретенские, отпрыски старого духовного рода.
А Охапкины и я, чьи отцы – священники в первом поколении, пытались крепостью овладеть.
– В бой! За Русь! – возглашал истошный Петюня, младший Охапкин, норовивший вырваться вперед и сквозь обстрел кубарем броситься в ворота, под ноги к противнику, весь побелевший.
Его отшвыривали.
– С нами бой! – кричал он хрипловато.
– Бог! – сурово поправляла сестра Маша, отряхивая сахарную вату его шарфа и смешную розовую шапочку, похожую на кулич в глазури, но спустя недолгое время он снова увлеченно выпаливал свой ошибочный клич.
Впрочем, он же размашисто крестился перед каждой битвой, помахивая голой веткой, как кадилом, которое минуту спустя превращалось в орудие, и возглашал грозно: «Миром Господу помолимся», сам себе отвечая неким мохнатым многоголосьем, изображающим хор.
Это происходило под одобрительный общий смех, пока не заложила ехидная Лида Сретенская (в будущем суперактивный волонтер; она усердно ищет и, по счастью, часто находит пропавших людей). Тогда взрослые отругали Петюню и нас всех.
«Молитва не игра, глупыш, разве ты не знал?» – допытывалась его матушка, стараясь быть мягкой и всматриваясь в глаза с острой тоской, он обреченно и согласно кивал и отныне перед боем сипел и булькал что-то под нос, видимо, в голове все же проигрывая молебен о победе.
Можно было бы ждать от Петюни служения в церкви, но пошел вразнос, ушел из дома, играл в переходе на гитаре, которую однажды в порыве гнева сломал случайный прохожий, его отец. Петюня стал фотографом, безостановочно перемещается по всему миру, словно не находя приюта, наполняя соцсети то нежными, то резкими кадрами природы-дикарки.
Зато Митрофан из стана Сретенских мог без всякой опаски играть в духовное лицо. Само лицо его я успел подзабыть, и в памяти осталось какое-то светлое восковое пятно внутри суконной ушанки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу