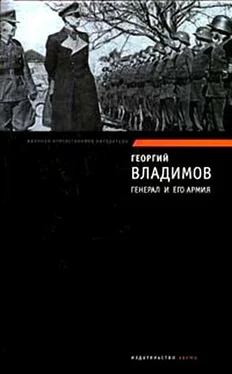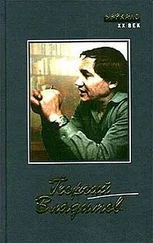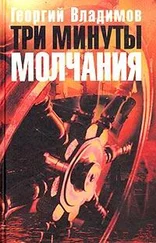Неожиданно маленький пикник был потревожен негромкими голосами. Обочиной шоссе шли женщины — в телогрейках, в платках, в резиновых сапогах, держа на плече лопаты. Небольшая толпа женщин, растянувшаяся на подъеме, взобралась на гору и проходила поверху, обтекая забрызганный грязью «виллис», — явление четырех фронтовиков, расположившихся на лужайке под насыпью, и среди них — генерала, было для кунцевских жительниц, верно, в диковинку, они враз умолкали и проходили, как бы не глядя, лишь кто помоложе посмеивались и перешептывались.
— Эх, бабоньки, гвардейцы пищеблока! — пожалел их Сиротин, слегка уже разомлевший. — Картошку, поди, заготовляют. Какая теперь картошка!
— «Какая»! — сказал Шестериков. — Самая дорогая, сверхплановая. Которую в сентябре не собрали. Небось теперь и себе наберут, не только государству.
— Ну, все он знает! — изумился Сиротин.
— Как же не знать, ежели лопаты каждая свою несет. Совхозные — они там побросали, в будке. А своей-то — глубже достанешь.
— А мы-то, дураки, — сказал генерал недовольно, — в рощицу не догадались съехать, расселись на виду пировать. Люди-то изголодались…
Одна из женщин остановилась как раз над ними и, скинув лопату с плеча, запричитала сиплым, простуженным или прокуренным голосом:
— Ой, ну, что ж это вы, мужчины, на сырой-то земле устроились! Так же ревматизм схватите…
— Не жалей нас, мамаша, — Сиротин ей показал стопку, вновь наполненную, — у нас от всех ревматизмов лучшее лекарство.
— Уже я тебе «мамаша», — сказала женщина. — Я думала — сестра старшая. А это все обман, лекарство твое. Тебе-то, молодому, еще все нипочем, а товарищ генерал у вас — пожилые, им бы поберечься.
— Ну, уж и пожилые, — обиделся генерал слегка игриво. — Я еще таких молодых двоих заменю.
Она в ответ слабо улыбнулась, показывая этим, что есть вещи, о которых ей-то уже думать поздновато, и генерал ей сказал серьезно:
— Спасибо тебе, дочка. За твою заботу.
— Ой, да за что ж спасибо! — Она вдруг обрадовалась, что может чем-то помочь этим четырем сильно бедствующим мужчинам. — А вы б, знаете, вон до будочки б доехали, там и обогреечка есть, стол есть, лавки. А нас там до обеда никого не будет, вам свободно. А то на вас даже смотреть зябко.
— Ничего, дочка, — сказал генерал. — Мы привычные. Спасибо тебе.
— Зато какой пейзаж! — сказал Донской, слегка уже порозовевший от коньяка, поведя рукою в сторону Москвы.
Женщина не нашлась ответить ему. Ее подруга — с таким же серым, опавшим лицом, — приотстав от толпы, сказала ей строго:
— И что ты, Любаша, к людям пристала, смущаешь. Люди себе хорошее место выбрали, Москву наблюдают. И радио, может, хотят послушать.
— Это где же радио? — спросил генерал.
— А вона! — Женщина, которую назвали Любашей, вновь осветилась улыбкой. — Вона же, на столбе. Не заметили?
Шагах в пятнадцати позади машины свисал с телеграфного столба огромный репродуктор с черным квадратным граммофонным раструбом. И впрямь, не заметили, миновали.
— Он горластый, — сообщила Любашина подруга. — Нам на картошке слышно, как известия передают. А вы сами — с фронта будете?
— Откуда ж еще! — обиделся Сиротин, для него все мужчины делились на фронтовиков и дезертиров. Она сделала таинственное лицо.
— А сейчас отдохнуть приехали? Или — на переформировку?
— Есть у нас дела, — ответил сухо Донской.
— Ну, ладно, — заторопилась Любаша. — Отдыхайте, приятного вам.
Обе женщины пошли дальше, вскинув лопаты на плечо. За ними от Кунцева еще шли, группками и порознь, и одна — молоденькая, круглая, как бочонок, в своем ватнике, перетянутом в поясе концами серого шерстяного платка, крикнула звонко:
— Фронтовикам, дролечкам, горячий привет от трудящего тыла! Как там орелики наши, хорошо бьются?
— Ох, и бьются, лапонька! — отвечал Сиротин. — Так бьются, что клочья летят!
— С наших-то? Или с фрицев?
— С наших — чуть-чуть, с фрицев — покудрявее.
— То-то веселые вы. А за компанию к вам — нельзя?
— А это спросим, — Сиротин поглядел вопросительно на генерала.
— Отчего ж нельзя, — сказал генерал. — А кого ж мы тут ждали?
Она прыснула и сделалась пунцовая, но тотчас заробела, прикрыла рот ладошкой и затесалась среди других.
Мужчины же, дождавшись, когда пройдут, выпили еще — за Победу, закусили и снова выпили — за Верховного и ощутили некое вознесение от принятого внутрь, от запахов отогревающейся земли и травы и оттого, что ждала их вдали Москва, понемногу высвобождаясь из-под сизых лохмотьев тучи. Донской, привстав на колени, вытащил свой самодельный портсигар, на котором сапожным шилом выколоты были скрещенные, перевитые гвардейской лентой штык и пропеллер, а повыше и пониже рисунка — «Будем в Берлине, Андрюша!» и «Давай закурим, товарищ, по одной!» Все по одной и взяли, кроме генерала, от которого они ладонями отгоняли дым. То была непременная минута молчания, долженствующая отграничить разговоры суетные от разговора сокровенного и значительного, и она длилась, длилась, никто не осмеливался ее прервать, все ждали слова от генерала, и он это понимал, только не мог собраться — что же ему сказать этим людям, с которыми он прожил, провоевал полтора года и которым завтра уже будет не до него?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу