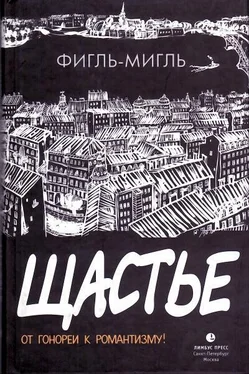Когда после заминки, вызванной отсутствием желающих говорить над могилой (только Людвиг, сутулый и потерянный, будто это его хоронили с разможжённой архитектурным излишеством головой, что-то тихо невнятно помямлил), на блестящую крышку гроба полетели сухие комья земли («Речи! Речи! — напомнил самому себе Аристид Иванович. — Я внесу это отдельным пунктом в завещание»), Фиговидец дернул меня за рукав.
— Ты погляди, погляди! — ахнул он. — И этот явился. Да смотри же! — Он почти готов был ткнуть пальцем. — Когда ещё выпадет возможность увидеть воплощённое зло!
Я поглядел на воплощённое зло: невысокого сухого человечка с подвижным умным лицом. Под чёрным сюртуком на нём был чёрный, сложно вышитый серебром жилет, под жилетом — голое загорелое тело. Если бы не возраст выше среднего и излишне нервный рот, я принял бы его за пижона.
— Кто это?
— Кадавр.
— МОЖ-НО НЕ-НА-ВИ-ДЕТЬ ПО-Э-ЗИ-Ю, — серьезно сказал Вильегорский, — И ЕСТЬ ЗА ЧТО. НО ЗАЧЕМ НЕ-НА-ВИ-ДЕТЬ ПО-Э-ТА?
— Много чести шваль такую ненавидеть, — высокомерно отвечал Фиговидец. — Я всего лишь всегда держался от них в стороне.
— Почему?
— Потому что не хочу, чтобы через неделю после того, как подохну, мои так называемые друзья уселись строчить рифмованные некрологи. Да какое там через неделю! Прямо здесь же, на кладбище.
Кадавр тем временем приблизился к нам, слушал и улыбался. Его улыбка выглядела поощрительной. Фарисей попытался успокоиться.
— У этих людей, — («У вас, — сказал он Кадавру ненавидяще, — у таких, как вы») — в голове что-то выжжено, точнее говоря, не что-то, а стыд. Когда вы чувствуете боль, то сразу же предаёте.
— Но если боль невыносима?
Воплощённое зло говорило приятным, безупречно вежливым голосом, в упрёк которому можно было поставить только наигранно мягкую интонацию.
— Боль не бывает невыносимой. Она или убивает, или стихает, или приучаешься её терпеть. Поэтам не мешало бы иметь над письменным столом картинку со спартанским мальчиком.
— А ЕСЛИ ОНИ ПИ-ШУТ НЕ ЗА СТО-ЛОМ? — спросил Вильегорский.
— Кто это — спартанский мальчик? — спросил я.
— А, — Фиговидец отмахнулся, — да этот же, с лисёнком.
— ИН-ТЕ-РРЕС-НО, А С НИМ ЧТО СТАЛО? С ЛИ-СЁН-КОМ?
— Это вымышленная история, — заметил Кадавр. — Для лисёнка у неё нет окончания.
— А КТО ЕЁ ВЫ-МЫС-ЛИЛ?
— Вряд ли лисы.
— Бог мой, — сказал Аристид Иванович, — как это всё же утомляет. Давно не было таких нервных похорон. Пойдёмте обедать.
Но я с ними не пошел.
Вот что было прекрасно на В.О.: можно было пойти куда угодно и встретить кого угодно там, где вовсе этого не ожидал, и предстоящий день, предстоящий вечер разбегался десятком тропинок, сотней возможностей, о большинстве из которых ты не знал ничего, лишь то, что они смутно, неявленно существуют в золотом тумане времени — и так в нём и останутся, пропадут навеки.
Предстоящий день, предстоящий вечер! Выбирая одно, автоматически отказываешься от всего остального, но на этих путях, этих тропинках отвергнутое неожиданно, улыбчиво преграждает тебе дорогу, без трещин и швов вписываясь в рисунок будущего. И как мог кто-либо удивиться, увидев через несколько часов в баре, куда не собирался заходить, Фиговидца, который весь сиял радостью и только что не кувыркался, и того, кто поворачивается и сверкает золотыми зубами и говорит:
— Вот и ты, мой прекрасный.
4
Утром я проснулся в чужой постели. (Нет, не Кропоткина.) Я не помнил, как в неё попал, и только теоретически мог предположить, что в ней делал. Хозяина (хозяйки?) дома уже не было. Я позавтракал в светлой столовой под присмотром солнца и пожилой молчаливой экономки. Когда я уходил, она подала мне на подносе простой незаклеенный конверт. «Илья Николаевич просили напомнить, что завтра вы с ними обедаете», — сказала старушка. Я вспомнил Людвига, накануне подкараулившего меня в баре со странной просьбой. И вот, с бандитом я сегодня обедаю, с фарисеем и книжником — совершаю уголовное преступление. «Ага», — сказал я. В конверте не было ничего, кроме денег. Кое-что, по крайней мере, прояснилось.
В состоянии странной апатии шёл я по неширокой улице, быстро выведшей на Невский. Спадала жара, в иные дни август глядел сентябрём и полнился какой-то прозрачной прохладой. Тротуары уже не поливали водой — за дело взялись ночные дожди. Я другими глазами увидел размыто-розовые и серые фасады, редкие неброские витрины первых этажей, безлюдье. Я словно шёл по чужому сну или, наконец, по своему собственному. Только на Невском мне стало легче.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу