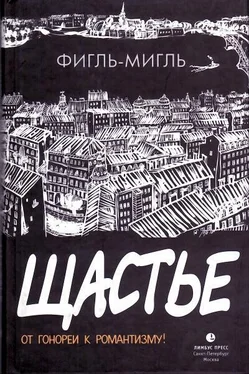Дальнейшее слиплось в какой-то ком, из которого высунулась рука и ударила меня по голове (быть может, палкой). Я очнулся в медленно раскачивающемся катере: контрабандисты не обманули и везли нас на Васильевский.
— Что это было?
— Не знаем, миленькой, — беззаботно сказал Фиговидец. — Может, солнечный удар? Ты сидел в сторонке, сам с собою беседовал, а потом подскочил и хлопнулся в обморок. Неприятно завершать путешествие таким пассажем, да, Муха?
— Ага, — отвечал Муха. — А что если нам теперь поехать в настоящую экспедицию? — Он поправил тряпочку у меня на макушке. — Лежи, лежи. Не прямо же сейчас.
— На краю географии мы уже побывали, — фыркнул Фиговидец.
— Мы поедем за пределы ойкумены!
Фиговидец фыркнул ещё выразительнее.
— Это куда? В Москву?
— А хотя бы, — сказал отважный Муха.
Фарисей остроумно прикинулся незаинтересованным и, отвернувшись, замурлыкал: «Утро туманное, утро седое…». Он напевал, катер мотало, в моей голове что-то моталось, перекатывалось от края к краю. Блестела, горела вкруг лодки вода. Над водой, в небе, мы неслись золотым сверкающим облаком.
— Эту песенку, — сказал я. — Спой мне её от начала до конца. Пожалуйста.
1
Утром я проснулся в чужой постели. Она была удобная, широкая и в меру жёсткая; гладкое свежее белье приятно пахло. Я с удовольствием ленился, потягивался, жмурясь, прислушиваясь к шуму ветра за полуоткрытым окном. Обильная листва шумела, как под дождём, но подоконник пестрили пятна света и тени, и птицы перекрикивали ветер. По коридору и через комнату знакомо, самоуверенно зашаркали шаги.
— Перфекционизм меня убьёт, — сказал Фиговидец, зевая и растирая поясницу. — Кофе будешь?
Он сел рядом, наклонился, медленно повёл у меня перед носом маленькой тонкой чашкой, до краёв полной густым запахом, и, склоняясь все ниже, осторожно поцеловал под ухом.
À propos: Фиговидец
У Фиговидца, как и у любого другого, был идеал самого себя. Обжигающе холодный, хитроумный, улыбающийся хлыщ — вот каким он видел порывистого, нервного, прямого как доска парня. Его с колыбели учили сдерживаться, и автоматические навыки владения собой вынуждали его молчать, когда внутри всё кипело, но кипело постоянно, вовлекая его в постоянную борьбу с миром, во веки веков не тем, не таким. Он жил всегда и всем недовольный, не помышляющий о смирении; перекраивал, перестраивал, угрюмо и упорно выбирался из-под обломков. «Читаешь книги, — говорил он, — а потом смотришь вокруг, на своих друзей и знакомых, и такое чувство, что тебя жестоко обделили, не дали за обедом десерт. — Он хмурился. — Да какой там десерт! Как будто в соседней комнате все пьют шампанское, а ты жрёшь на кухне перепаренный суп».
Путешествие не дало ему ничего или дало слишком много — больше, чем он мог бы вынести, — что, в конечном счете, одно и то же. («Неоценимые услуги остаются неоценёнными», — говорил он.) Его игра с депрессией давно перестала быть игрой. Он составлял график. Он строил жизнь так, чтобы запланированной депрессии ничто не мешало. Он укладывался в постель и злобно, методично сходил с ума, пережёвывая все свои обиды и неудачи. Особое внимание уделялось деяниям, совершённым им в нетрезвом виде. Как многие люди, пьющие регулярно, но не до беспамятства, Фиговидец обладал богатой коллекцией собственных проступков, промахов, оплошностей и того, что он широко обозначал словом мовэ. Ужас, охватывавший его утром, вряд ли был соизмерим с безобразиями вечера накануне, но он об этом не думал. И он никогда не сосредоточивал внимание на том, как смешны были другие, его убивало сознание, что смешон был он сам.
Поскольку он не видел смысла отказываться от радостей алкоголя, то всё чаще пил в одиночку. Это приводило к тому, что он начинал бояться пить на людях, начинал нервничать и следить за собой ещё до того, как опрокидывал первую рюмку. Он перешёл на коктейли, на маленькие глоточки. Он без умолку болтал, строя фразы, всё прихотливее, так, чтобы, не поломав фразу, между словами не уместился бы даже и самый незаметный глоток. И он старался говорить о чём-либо, что увлекло бы его сильнее спиртного, но часто увлекавшее его оказывалось совсем не увлекательным для слушателей, они перебивали, меняли тему, и тогда, сердясь, смущаясь, он словно впервые видел стакан в своей руке и переключался на него полностью. Он был уверен, что катится вниз.
Он просил о помощи, но на свой лад, слишком скромно. Это была не высказанная словами просьба — просьба взгляда, улыбки, интонаций, — которую можно заметить, а можно и не заметить, в зависимости от желания, причём тот, кто выбирал второй вариант, чувствовал себя свободным от угрызений совести, которые появились бы, откажи он напрямую или проигнорируй просьбу настоящую, оформленную в слова.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу