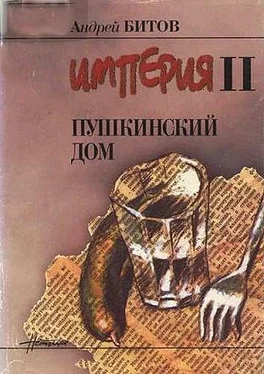Но дальше было вообще чудо: провожание это слилось для Левы в сплошное цветение, полыхание и благоухание. Никогда не говорил он так дивно, как тогда, когда они вдруг приостановились на канале, оперлись о парапет и смотрели на черную воду, и он наконец решился взять Фаину за руку… Потом они целовались в парадной так истово, так неудержимо, что за окном предательски светлело. Фаина говорила ему такие слова, такие слова, что повторить их нельзя даже про себя, потому что они ничего уже не будут значить и завянут тут же, не оставив ничего, кроме разочарования.
Он и не подозревал тогда, что в свертке Фаины лежат шесть пирожных; что она ни слова не понимает по-французски, потому что в инязе никогда и не училась, выйдя замуж сразу по окончании курсов машинописи; что и из его, уже русской, речи тогда, у парапета, которая, казалось Леве, и утвердила окончательно его победу, без которой он не добился бы ее любви, и из этой речи она ничего не запомнила, вполне удовлетворяясь прекрасным пониманием и знанием его состояния, и только; он не имел представления, в какой мере те единственные слова, которые он впервые услышал от Фаины тогда в парадной между лобзаниями, столь же естественны и обязательны для нее, как поцелуи, и почти ничего не значат: просто она знала, как доставить ему радость, и не было никакого повода отказать ему в ней… (Хотя не следует до такой степени отказывать и Фаине — в искренности. Потому что и неискренности мы — отдаемся. Во всяком случае, она отдавалась ей вполне.) Лева же ничего этого не знал — это было бы даже отвратительно, если бы он подозревал об этом. Он ничего этого не знал, и единственное, что нестерпимо отравляло его упоительное счастье, была одна маленькая нужда, застилавшая своими размерами свет… (Позже, когда он поведал ей об этом своем смешном мучении в ту ночь, в расчете на некоторое даже умиление с ее стороны при воскрешении столь радостных воспоминаний, Фаина лишь пожала плечами: «Мог бы и отойти, я бы подождала», — сказала она.)
Следующее их свидание было опять послезавтра. Лева не прожил, а как бы силой прорвал это время и очутился утром в комнате Фаины; никого наконец не было, и, проявив неожиданную смелость, он тут же овладел ею; она, впрочем, нисколько ему в этом не препятствовала. Лева тотчас чуть не помешался, но не от божественного наслаждения — оно оказалось не так уж и велико, как он ожидал, и он впервые провел границу между желанием и наслаждением, — а от самого факта, разрывавшего его сознание со счастливым треском и не умещавшегося в нем. Он, не зная, чем отблагодарить, как уравновесить то, что она ему дала, осыпая ее поцелуями, радостно признался, надеясь польстить ей, что она первая женщина в его жизни (до достижения он, наоборот, старался казаться бывалым), — Фаина же ему не поверила: то ли действительно уж больно оказался ловок и спор на этот раз, то ли польстить хотела тоже.
На следующий день Лева расчувствовал все несколько больше. И теперь ему, в его опьянении, казалось, что так и будет, все выше и выше, до какого-то уже нестерпимого по сладости звона — и так всю жизнь…
Но почти тут же заметил, что в Фаине что-то изменилось, будто она удивлена, что он опять пришел, что она отводит глаза и молчит, когда он требует прежних слов, теребя ее жарко за руки, что и отдается она ему, при всей уже отмеченной Левой преданности этому делу, с каким-то даже равнодушием, чуть ли не с неохотой.
Один раз ее уже не оказалось дома, и он дежурил три дня — ее все не было; наконец поймал — и она была веселее и добрее, чем обычно… А Леву теперь мучило не только ее исчезновение на эти три дня — куда? к кому?.. — но и то, что она вернулась такая довольная. Леве, уже обеспамятевшему, все хотелось понять, в чем же дело, чтобы ему «только лишь» объяснили, чего не хватает в нем и что еще нужно делать, чтобы все было «как прежде», — потому что нет такой вещи, — это было очевидно ему, — которой он не сделает для Фаины, точнее, ради нее.
Он решил поговорить с ней «начистоту» (в этой «чистоте» он, бессознательно, подразумевал лишь одну сторону — восстановление ее прежних слов и признаний) и повел ее для этой цели в кафе, отчасти желая повторить тот прекрасный вечер в ресторане и все больше уверяясь в том, что он непременно повторится, этот вечер (это давно следовало сделать, укорял себя Лева, это следовало сделать раньше, до «похолодания» Фаины). Но повел он ее в кафе, а не в ресторан, потому что у него мало денег (так мы всегда, давая все меньше, полагаем, что отдаем последнее, а за последнее — требуем от другого всего), но и кафе это, по признанию Фаины, очень ей всегда нравилось: какое-то уютное, особое освещение, там можно «побывать вдвоем» и т. д.
Читать дальше