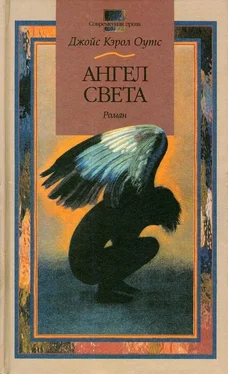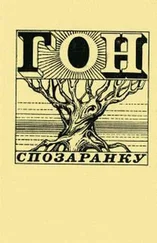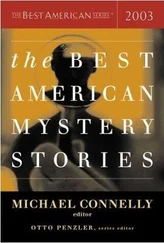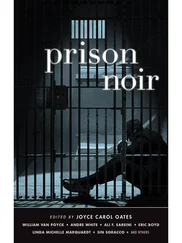Кирстен не ревновала Изабеллу — не ревновала ко всем этим друзьям или мужчинам, которые появлялись и исчезали и снова появлялись в ее жизни. В конце концов, Изабелла ведь была одной из трех или четырех наиболее высокопоставленных светских дам Вашингтона той поры — так чего же могла ждать от нее дочь? Чего же мог ждать от нее сын? Внимания и преданности обычной американской матери?..
Кирстен анализировала свои чувства и порой обсуждала их — хотя и не впрямую — с братом или двумя-тремя девочками в Хэйзской школе, которые (будучи дочерьми таких же матерей) могли, казалось, ее понять. Она не ревновала мать, не была и озлоблена на нее. И уж конечно, не «состязалась» с ней — вопреки утверждениям доктора Притчарда. Она не желала Изабелле зла, наоборот: желала матери вечного успеха, ибо в радости Изабелла была теплой и щедрой, как солнечный свет в общественном саду, и всегда одаряла своим теплом детей и мужа, это, очевидно, и было тем методом — методом, применявшимся многие годы, — который сохранял семью Хэллеков как таковую. Поэтому Кирстен желала своей мамочке счастья и была убеждена, что преодолела в себе детские приступы ревности. Разве, в конце-то концов, она не гордилась ею, когда девочки в школе говорили о красоте Изабеллы (фотография на первой полосе воскресного выпуска «Вашингтон пост» в разделе светской хроники, телеинтервью с Джейми Нигером в связи с весенней кампанией по сбору средств, развертываемой центральной организацией Национального общества по борьбе с рассеянным склерозом) и изъявляли желание когда-нибудь познакомиться с ней; разве Кирстен не приятно было, что дома без конца звонил телефон и Нелли без конца отвечала своим шоколадно-теплым голосом: «Резиденция Хэллеков» — со слегка вопросительной интонацией, как бы выражая благодарность хозяйки за звонок и неизбежное сомнение, ибо, конечно же, Изабелла не могла принять слишком много приглашений, ей приходилось выбирать. Кирстен не ревновала и ничего не делала назло — даже самые дикие ее проделки не были продиктованы ехидством. Она просто интересовалась делами матери. Вот именно — проявляла определенный, отнюдь не маниакальный интерес.
Она была фактоискателем, толкователем. Своего рода переводчиком. Она слушала, смотрела, наблюдала, подмечала. Но не судила.
Сейчас она невидящим взглядом смотрела на рисунки, развешанные рядами на стенах кабинета. Анатомические штудии — детальное изображение плеч, торсов, ног, рук, даже внутренности горла. Все по отдельности, лишь на одном было изображено все тело целиком, да и то это был труп.
Отвратительно, подумала Кирстен.
И однако же было в этих рисунках что-то притягательное. Несмотря на точность деталей, достоверность изображения тканей, костей, своеобразия кожи, крошечных волосков, в рисунках чувствовалась игра воображения — они по-своему были красивы.
Леонардо да Винчи. «Из альбомов». Однако Кирстен пришла в голову нелепая мысль, что Ди Пьеро сам их нарисовал.
Она стала всматриваться в рисунки, постукивая ногтем по стеклу. Наполовину вскрытый труп (труп мужчины) — изящный изгиб отделенной от тела ноги, с обнаженной мускулатурой и тщательно вывернутой кожей… удивительно сложная внутренность гортани.
Очень странно. Но право же, красиво.
Интересно, подумала Кирстен, почему Ди Пьеро купил эти литографии. Что они значили для него — что он видел, когда смотрел на них? Спросить его об этом она, конечно, не могла: Ди Пьеро никогда не отвечал на «личные» вопросы.
(Она слышала, как он откровенно и забавно рассказывал о своей жизни, но всегда в форме анекдотов, всегда в форме коротеньких историй с ироническим заключением. Так что «личное» превращалось у него — да и у других взрослых, которых знала Кирстен, — в ловко скроенную абстракцию, пригодную для светской беседы. Путешествие на каноэ по реке Лохри, к примеру, и несчастье, случившееся на порогах, когда чуть не погиб Мори, было темой нескольких историй, которые рассказывали Ди Пьеро, Ник Мартене и сам Мори, но у каждого была своя версия, и ни Кирстен, ни Оуэн так в точности и не знали, что же там произошло. Их отец семнадцатилетним мальчишкой чуть не утонул — вот это было точно. Но как перевернулось его каноэ, что с ним случилось и как Нику удалось вытащить его (с помощью Ди Пьеро?., или другого мальчика?., или в одиночку?) — этого дети так и не знали. Ди Пьеро говорил о путешествии на каноэ как о событии, оставившем «глубокий» след в его жизни, но невозможно было понять, что он под этим подразумевал, да и вообще подразумевал ли что — либо. Первая поездка в Японию, когда ему было двадцать три года, тоже оставила в нем «глубокий» след, как и восхождение на гору Дрю во Франции (ему и одному молодому французу из-за внезапно разыгравшейся пурги пришлось просидеть там трое суток, пока не подоспела спасательная команда). Однако говорил он об этом лаконично, точно рассказывал о событии, происшедшем с кем-то другим. Да, его каноэ тоже перевернулось на Лохри, и он мог утонутэ; да, он боялся, что до смерти замерзнет на Дрю — собственно, его товарищ лишился всех пальцев на правой ноге. Но эти события описывались нечетко. Эти события описывались безлико.
Читать дальше