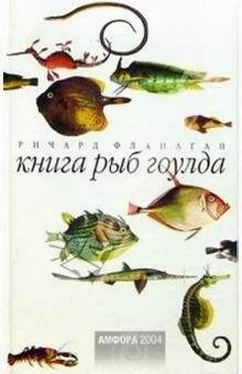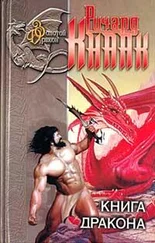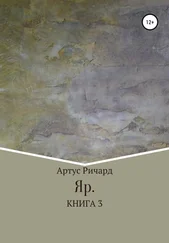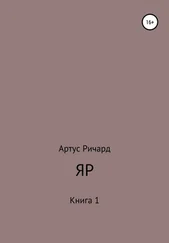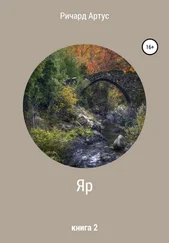В суде меня попросили изложить мотивы моего преступления, но что я мог им сказать? Что сперва видел в рыбах людей? А потом чем внимательней я наблюдал этих печальных, издыхающих тварей, чем чаще видел предсмертный взмах хвоста или отчаянное трепетание жабр, свидетельствующие, что немой ужас ещё длится, чем пристальнее вглядывался в бездонную бездну их глаз, тем глубже нечто присущее им проникало в меня, становилось мною?
И как я мог открыть кое-что ещё более удивительное: что в последнее время небольшая часть меня против моей воли начала долгое и роковое путешествие в них, в их мир?! Некая малая часть Вилли Гоулда — она разрасталась и разрасталась — падала и падала кубарем, вверх тормашками прямо в их грустные, обвиняющие глаза, в этот закручивающийся спиралью тоннель, который заканчивался, только когда я внезапно осознавал, что больше не падаю, а тихо покачиваюсь в морских волнах, не зная, оказался ли наконец в безопасности или же в конце концов умер; и на определённом этапе сего падения я каждый раз с ужасом замечал, что сверху на меня таращится акула-пилонос, притворяющаяся Йоргеном Йоргенсеном, и понимал, что теперь вижу рыб в людях!
Меня бросало в пот и жар при одной только мысли обо всей этой жути, страшно было даже подумать о ней, а не то что во всеуслышание рассказать о происходящем со мной, ибо я хорошо усвоил: чтобы выжить и преуспеть в этом мире, очень важно не испытывать никаких чувств ни к чему и ни к кому, а я знал, что хочу выжить и преуспеть. Но вновь обретённое ощущение близости к тому, что совсем недавно казалось мне обыкновенной вонью в оболочке чешуи и слизи, заставило меня признать: в открывшемся мне удивительном мире нет ничего — ни мужчины или женщины, ни дерева или былинки, ни птицы или рыбины, — к чему я смог бы оставаться безразличным.
Меня несправедливо обвинили, предали суду и, разумеется, признали виновным за убийство. Но каково моё истинное преступление?..
Моё истинное преступление состояло в том, что я увидел сей мир таким, каков он есть, и отобразил его в виде рыб. И уже по одной только этой причине я с радостью расписался в том, что признаю себя виновным, — это освободило меня от колыбели и трубчатого кляпа, — и мне было глубоко наплевать на все те неточности, кои могли вкрасться в обвинительный приговор.
Я уже провёл в моей камере-садке более полутора лет, ожидая казни, но Побджою всё время удаётся оттягивать её, прибегая к различным уловкам. Поначалу это мне подходило. Дело в том, что Побджой собрал и переплёл все мои прежние акварели, изображающие рыб, в альбом, а затем продал его некоему доктору Оллпорту, жившему в Хобарте. Мне до этого не было никакого дела, потому что, правду сказать, меня по-настоящему не удовлетворяла ни одна из моих работ, выполненных для атласа мистера Лемприера. Сколь это ни покажется вам странным, только сейчас, снова начав рисовать рыб, теперь уже по памяти и при плохом освещении, я вдруг ощутил, что наконец доволен достигнутыми результатами: изображённые мной рыбы стали достойны своего названия.
Побджой почуял, что, с тех пор как меня посадили под строгий арест в камеру-садок, я как бы воспрял духом и талант мой расцвёл, развернувшись подобно листу папоротника под тенистым пологом леса. Побджой, для которого я сперва служил всего лишь объектом пинков и трепок, весьма впечатлился тем, насколько меня теперь волновало искусство, и только оно одно, а ещё больше его впечатлила сумма, кою хобартский доктор с радостью выложил за предназначавшуюся мистеру Лемприеру «Книгу рыб».
У Побджоя открылись глаза: он понял, что живопись — это ещё более ходовая валюта, чем табак или ром, если знаешь, где её разменивать, и на неё можно сделать ставку. Но для того чтобы я мог заниматься искусством, а Побджой — наживаться на этом, требовались соответствующие материалы, и он мне их предоставил.
Прикрываясь писанием «Констеблов» для Побджоя, я решил, пока нахожусь в камере, нарисовать новую «Книгу рыб», воспроизвести все прежние рисунки по памяти, но на сей раз ещё и присовокупить к ним записки. Побджой снабжал меня холстами и масляными красками для «Констеблов», а также, по моему настоянию, бумагой для предварительных набросков, без коих-де никак нельзя обойтись. Однако я не мог создать вторую «Книгу рыб» без акварельных красок.
В последний раз я видел Салли Дешёвку, когда та пришла ко мне в камеру — якобы принести пищу. Моя жизнь там текла в высшей степени монотонно, и, если не считать встреч с Побджоем, я был свободен от необходимости общаться с другими людьми. Бог с ними, с другими, говаривал старый священник, которому так нравилось гладить и тереть мои ступни в надежде когда-нибудь забраться и повыше; но ведь и ад, как я полагал, он тоже с ними. Так что я вовсе не желал вновь увидеть Салли Дешёвку — по правде сказать, мне не хотелось этого никогда. Но всё же она пришла, одетая служанкой, за каковую иногда себя выдавала.
Читать дальше