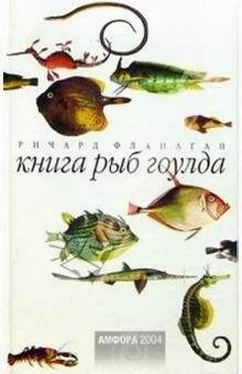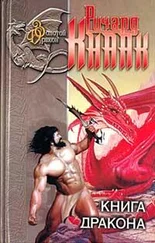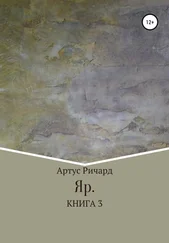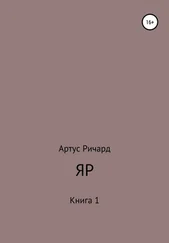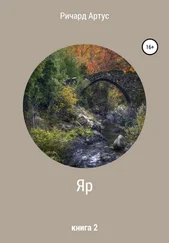Но всякая рыба есть сама истина, сама правда, и, не представляя себе, как надо рассказывать правду, а уж тем паче писать её акварелью, я несколько дней вообще избегал делать это, развив лихорадочную деятельность и с головою уйдя в хлопоты по благоустройству хибары, гордо звавшейся домом Доктора. Пока я всё начищал и намывал в нём, а затем чинил то, что сгнило или пришло в ветхость, пока приводил в порядок многочисленные и разнообразные коллекции, меня вновь посетила былая фантазия стать портретистом, дабы изобразить все хобартовское общество, — нелепица, я понимаю, уж сколько шуток по сему поводу пришлось мне выслушать ещё до того, как я попал в город, — но мне пришла в голову мысль, что физиономии, отмеченные печатью такого тёмного прошлого, заслуживают, чтоб их написал человек, имеющий столь мало таланта, как я. Ведь мои работы предназначались не для Королевской академии искусств, не для Прадо или Лувра, но для ублюдков и дураков, съехавшихся со всего Старого Света, утомивших его воровством и разбоем и решивших, что это даёт им право командовать и распоряжаться в Свете Новом.
Чем, вынужден добавить, они и занялись.
Ну что же, именно сим путём люди испокон веков и приходили к власти; я вовсе не думал возражать — мечтал только примоститься где-нибудь с краю, чтобы заработать на кусок хлеба. Ибо, как однажды сказал Капуа Смерть, если когда-нибудь на земле дерьмо станут продавать на вес золота, то бедняки начнут рождаться вовсе без задниц. Таков наш удел, и я не претендую на то, чтобы тут что-нибудь изменить; ничего не поделаешь; мне лишь хотелось подсуетиться и постараться выжить. Мне вовсе не улыбалось стать плотником, или пастухом, или юнгой на китобое. Для этого не годились ни мои руки, ни моя спина, ни весь мой предшествующий опыт работы.
Сперва я просто рассчитывал как-нибудь притереться к прогнившей, но всё-таки господствующей системе, и если для этого требовалось копировать всё, что попросят, будь то банкноты или гнусные рожи почтенных горожан, я не возражал — только бы это не привлекло лишнего внимания ни к ним, ни ко мне.
Главная закавыка состояла в том, что мастерство моё, коего, пожалуй, достало бы для изображения сливок здешнего общества, хоть и не слишком верного, всё же было слишком мало, чтобы я не питал сомнений, смогу ли создавать рисунки, сравнимые с триптихом капитана, не обману ли ожиданий нового заказчика; я опасался, что если не сумею им соответствовать, если обнаружится, что я вовсе не тот, кем желал меня видеть Доктор, то я запросто попаду на виселицу. Но далее если бы мне хватило умения выполнить работу, я был уже совсем не уверен, что действительно хочу этого. Доктор увлёк меня, можно сказать, совратил, пообещав положение Боттичелли, однако настало утро нового дня, и я увидел, что оно подозрительно напоминает нечто другое; мне стало казаться, что я взвалил на себя ношу, которую до сих пор тащил Боудлер-Шарп.
Если бы я мог найти более подходящее и менее опасное место для постоя, то, несомненно, с радостью сделал бы это, но выбирать не приходилось. Ничего иного не оставалось, как искать подход к поставленной передо мною задаче.
Когда Доктор уходил надзирать за отправлением телесных наказаний или заниматься медицинским освидетельствованием, чтобы в очередной раз лишить больных и умирающих отсрочки от работы в команде колодников или, в особых случаях, отправить их в лазарет, и я был уверен, что мне никто не помешает, я открывал его чемодан и тщательно изучал, как и в каком стиле выполнены в книгах рисунки растений и животных. В лучших из них, конечно же, ощущалась та лёгкость, достичь которой мне, как я прекрасно понимал, не суждено было никогда, однако худшие изображения представляли собой такую же тусклую мертвечину, какой, верно, являлась и сама «натура», когда художники её рисовали, так что меня утешала льстящая самолюбию мысль, что я сумею справиться с этим не хуже.
Но когда я отправлялся к рыбакам, чтобы посетить их лодки и посмотреть, что попалось к ним в сети помимо очередного раздутого утопленника — каторжанина, захлебнувшегося в волнах при попытке к бегству, — сердце моё опять наполнял страх, стоило мне снова увидеть сплошную массу трепещущих плавников и жабр, передать вид коих, казалось мне, выше моих сил.
Похоже, у меня был единственный талант, полезный художнику, — мгновенно схватывать особенности характеров и человеческих лиц, а затем передавать их в своих рисунках, шаржированно и грубо, и я с удовольствием развивал его, делая углём всяческие наброски на сложенных из песчаника стенах Пенитенциария, куда нас приводили на ночь и где мы спали в завшивленных гамаках, развешенных по всему длинному и мрачному помещению казарменного типа.
Читать дальше