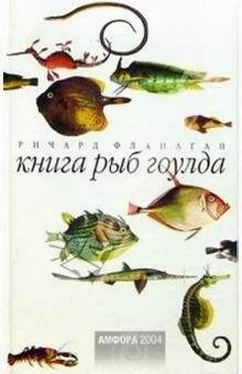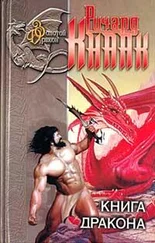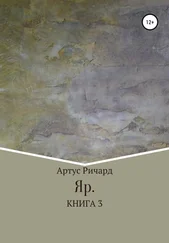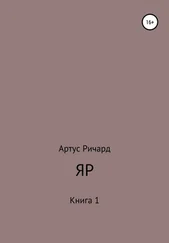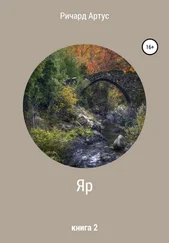Постепенно из мрака проступили стены просторного помещения, достаточно большого, чтобы в нём могло уместиться человек, наверное, двадцать, хотя сейчас оно служило жилищем парочке потору и одной сумчатой кунице, которой, видимо, не понравилось моё общество, потому что, прошмыгнув мимо меня, она всё-таки предпочла покинуть хижину.
У меня возникло чувство, будто я угодил в перевёрнутое гнездо гигантского морского орла, ибо изогнутые стенки высокого купола были покрыты перьями какаду, зеленовато-жёлтыми, словно обмакнутыми в серу, и чёрными, как у ворона, перьями карравонгов. Там и сям на распялках у стен висели шкуры животных. Вокруг меня валялись острые камни, которыми дикари обычно пользуются как орудиями труда, оправа зеркальца, а также предмет, при ближайшем рассмотрении оказавшийся кремнёвым замком ружья, который вставили в какой-то хитрый инструмент вроде заострённого ножа. Подобно тому как глаза мои привыкли к полумраку, нос тоже освоился с запахами, и те уже не вызывали отвращения, но даже успокаивали, в них чудилось что-то от холодного мяса или возвращения домой.
Я сел — так было удобнее — и долгое время в растерянности таращился на давно потухший очаг посреди хижины, не зная, что делать дальше. Это же надо, зайти в такую глушь, и зачем? Просто чтобы сжечь все документы и записи. И понять, что не в силах идти дальше. Меня уже не заботило, останусь я жив или умру, не то что удастся ли мне найти Брейди. Припасы, силы — всё было, похоже, растрачено в безумном донкихотском предприятии, закончившемся одним разочарованием.
Мою спину сводило, перетруженные мышцы вздулись желваками, словно кто-то навязал множество узлов. Суставы ног моих напоминали камни в бурной реке, трущиеся друг о дружку. Голова кружилась от лёгкой лихорадки. Замёрзший, старый, затерявшийся в краю, который ни один белый ещё не видел на карте, лишённый надежды, совсем один в туземной хижине с перьями на стенах. Было тепло, но страшный, жестокий холод наползал на меня. Я чувствовал, что не могу сдвинуться с места, хотя мысленно ходил кругами — и внутри хижины, и внутри самого себя. С неожиданной ясностью я вдруг осознал, что умираю и, если не предприму чего-нибудь, меня это скоро перестанет тревожить. И оказалось, что я борюсь не столько со смертью, сколько с желанием жить.
Я был напуган.
И решил обратиться к Богу.
И захотел поведать Ему обо всём.
Я неловко откашлялся. Заставил себя обрести вновь некоторое достоинство и преклонил колени. Мне захотелось просто позволить излиться всему, от пристрастия Каслри к выпивке до жутких зубов Аккермана, а ещё тысяче других вещей, и это действительно было бы великолепно — наконец высказаться и более не держать всего в себе.
— Боже, — начал я, и моя молитва-исповедь понеслась к небу в таком виде:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Это была удивительная радуга, сия исповедь, и я действительно вложил в неё всё, что знал, и не сомневался, что всё оживёт в ней: растения, птицы, рыбы, звери, которых я так любил, не говоря уже о несвежем дыхании Коменданта, потрясающих сосцах миссис Готлибсен и плясках Салли Дешёвки; всё это уместилось в двадцать шесть букв английского алфавита.
Но и они мне, увы, не помогли — когда и какой молитве это удавалось? И лишённый возможности преклонить колени на каменном полу церкви, я раскачивался, и падал, и мечтал, и обнимал землю.
Я, возможно, скончался бы в самом скором времени, если б моё падение самым прискорбным образом не прервала маленькая пирамидка из тронутых охрой камней. Когда я, стеная, покатился кубарем, ещё гуще покрытый золою и синяками, то случайно заметил: из-под наполовину развороченной мною пирамидки торчит книга.
В ту минуту ничто, наверное, не могло бы нагнать на меня большую тоску, нежели перспектива опять углубиться в чтение, ибо разве не оно стало для меня в последнее время главным источником разочарования и основной причиной утраты всяких иллюзий, единственным средством перевернуть всю мою жизнь вверх дном, разбередить и опечалить меня сверх всякой меры и привести к убеждению, что в этом мире всё доселе принимавшееся мной как должное есть одно гнусное надувательство?
И я понял, что почувствовала бы миссис Готлибсен, когда б я вовремя не догадался пустить в ход Вольтера. Она почувствовала бы то же самое, что и я с моими книгами. То есть сочла бы себя обманутой.
И вообще, что, как не чтение всяческих выдумок и небылиц, всех этих книжек о любви и приключениях, развратило Йоргенсена, когда он был ещё мальчишкою, заставило думать, будто он сможет переделать мир, воссоздав его в образе книги? Что, как не чтение идиотских посланий мисс Анны, завело Коменданта в пучину безумств? Что, как не чтение всевозможных трудов Линнея и Ламарка, вселило в моего «дикобраза» уверенность, будто ему суждена великая задача классифицировать мир? В итоге сам он, точнее его череп, был классифицирован как несравненный экземпляр, доказывающий вырождение негроидной расы.
Читать дальше