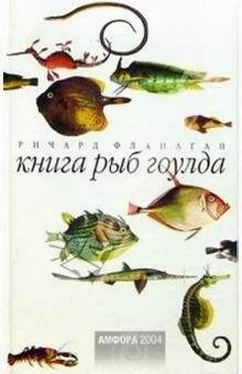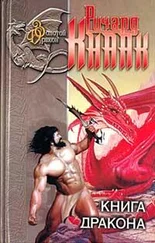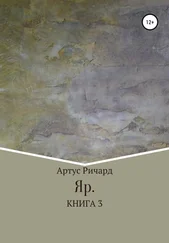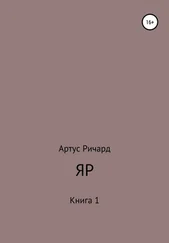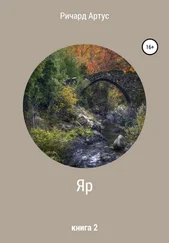Король Канут — Аутодафе по-дикарски — Уход Салли Дешёвки — Метаморфоза — Кострище с черепами — Песнь Песней Соломона — Улей — Цена любви к чтению — Попытка съесть дневник Брейди — Вселенная страха и бесконечность любви — Опять Клукас — Вознаграждение за предательство
Охваченный ужасом, я стоял и смотрел, но затем отвёл взгляд. Сперва я не мог поверить своим глазам. Нет, говорил я себе, это обман зрения, плод помрачившегося рассудка, это пляска языков пламени ввела меня в заблуждение. Но чем дольше я смотрел, тем более убеждался, что ошибки быть не могло.
Ибо прямо посреди костра торчало, возвышаясь над ним футов на семь, тёмное бревно, постоянно съёживающееся, объятое огнём и подпёртое со всех сторон горящими сучьями. Бревно было, если можно так выразиться, чёрным королём Канутом, восседающим на троне своём, а огненный оранжево-голубой прилив поднимался всё выше и выше, словно вода вокруг сего датского владыки на английском престоле, который сперва позволил прибывающей воде замочить ноги, а затем захлестнуть и кресло под ним, тем самым развеяв сочинённый придворными льстецами лукавый миф о его всемогуществе. Я поморгал — один раз, другой — и окончательно понял, что не ошибся: сей король Канут был умершим Скаутом, и я наблюдал за его кремацией.
Этот чёрный денди, ещё недавно заходившийся сухим кашлем, теперь застыл, чтобы навеки остаться в самом сердце костра, посреди пляшущего пламени, в коем он обугливался, становясь кем-то другим, неузнаваемым. Красные языки обвивали его талию, словно длани рабынь, ласкали грудь, подползали к самому подбородку. Руку, от которой осталась одна плечевая кость, пожирал огонь. Из ушного отверстия вырвалось ровное жёлтое пламя, напомнив мне о заправленной маслом лампе.
Громкий негодующий возглас заставил меня опять опустить взгляд: одна из собак пыталась стянуть руку Скаута, что упала на меня, а потом на землю. Но тут, к моей радости, руку придавила нога — нетронутая огнём, живая нога Салли Дешёвки. Салли наклонилась, вырвала мёртвую конечность из собачьей пасти, дала наглой твари пинка и, размахнувшись, бросила обугленную кость обратно в костёр.
Если читатель предположил, что Вилли Гоулд при этом вскрикнул или охнул, он очень ошибся. А если подумал, что Вилли Гоулд храбро подскочил к костру, выхватил из него тело Скаута и предал его христианскому погребению, то он ошибся ещё сильнее.
Во-первых, мне потребовалось немало сил, чтобы попросту не упасть в обморок. Во-вторых, я никогда не принадлежал к тем, кто учит других, как следует жить, а кроме того, как мне подсказывает опыт, сей способ перехода в небытие не из худших. Я уже и так успел распорядиться судьбою останков двух людей, причём в первом случае дерьмо превратилось в научную систему, а во втором труп переродился в осклизлого мудреца. Потому мне наконец стало ясно, что вмешательство в дела умерших не сулит ничего хорошего — ни в научном, ни в духовном смысле. И потом, у меня сложилось впечатление, что вид у Скаута весьма счастливый: на погребальном костре он сиял не хуже звезды Вифлеема, украшающей макушку рождественской ёлки. Это было красиво, а не уродливо. И не заключало в себе ничего правильного или неправильного. И запах распространялся тот, что надо, — хотелось бы мне, чтобы когда-нибудь Каслри источал такой же аромат.
Тут я поймал на себе взгляд Салли Дешёвки. Я ощущал на лице своём жар костра, видел, как отблески пламени рисуют на теле её и лице узор из светло-оранжевых и угольных пятен, в чёрных её глазах стояли слёзы. Опустив руку к поясу, где болталась корзиночка из шкуры кенгуру, она вынула комок охры и, вложив мне в ладонь, растёрла его; затем плюнула и превратила порошок в мазь, смешав его со слюною, при этом всё время приговаривала непонятные слова: «Баллеуинни… баллеуинни… баллеуинни…» — и всё время плакала, и лицо её подёргивалось и словно тряслось в неверном, прыгающем свете, и она всё не сводила с меня глаз, а я лишь смотрел, что делают её руки с замешанной на слюне охрой, и не отважился ни на что большее, даже когда она поднесла обмазанный красною краской палец к моей щеке и начала рисовать узоры на моём лице.
И, втирая охру мне в кожу, она всё время вглядывалась в меня, словно обрела давно потерянного друга, словно видела во мне своего мужа, брата, отца, своих сыновей — всех тех людей, которые были до Скаута, для которых она втирала охру в своё лицо и чёрный уголь в тело, чтобы оплакать их, когда один за другим они умирали от простуды и оспы, от триппера и мушкетных пуль, — глядела так, будто нас связывало что-то общее, соединяя наши тела, наше прошлое и наше будущее, будто знаки, нанесённые красною охрой, могли наделить меня пониманием всего этого, помочь приобщиться.
Читать дальше