4.
Теперь и родина — чужбина им; простор, вскормивший их, — неволя, лютый ветер, свистящий, стонущий, гудящий заунывно в шипасто-звездчатых рядах колючей проволоки, высоковольтно заключившей двенадцать тысяч человек в когтистые объятия голода и скотского повиновения участи.
И день, и ночь волнуется, качается кисельно, клеево, усильно и бесцельно, хрипит, бормочет, давит стон, тысяченогим шарканьем переставляет пухнущие ноги, по одному все и тому же кругу вязко двигаясь, будто размешанная палкой в чане клейстерная масса, орда голодных, запаршивевших, завшивленных; уходят с каждой пустой минутой, с каждым шагом жизненно важного значения соки из квелых тел, прозрачнеющих лиц, которые все меньше очеловечиваются мимикой гнева, ожесточения, неприятия, страдания, надежды, становятся пустыми, ничего не значащими — как жухлая трава, как палая листа, уже иссохшая, предсмертно просветлевшая, уже отдавшаяся зову властно холодеющей земли послужить перегноем для новой молодой хищной поросли, для грядущих эпох торжествующе-буйного роста зеленых листочков… шаг за шагом учиться вот так у природы безразличию к судьбе…
Все подчистую, до былинки вырвали из глинистой земли на проклятом квадрате, образованном вышками и плетнями колючки, все порвали, размяли, сжевали, ссосали, что корова жует, — и щавель, и крапиву, и пырей, и любую траву, от которой до желчи, пустоты рвет потом; из канавок и ямок, из всех вмятин каблучных всю влагу вместе с крошками праха давно уже высосали.
Все слабее, все просторнее тоска давит сердце, все слабее, все остаточнее горечь и злоба на то, что уходишь так рано, бесполезно, бессильно, бесследно — отдавая свой город, страну на позор, разграбление воцарившейся силе германца, отдавая любимых, детей, матерей, обрекая на рабскую участь… вообще не любив, не продолживши рода… Душе уже не в чем держаться. Но все же диким загораются огнем застыло-равнодушные, белесые глаза голодного, измотанного пленного при виде исполинского дымящегося чана с поспевшей неодолимо-соблазнительной баландой, который на двенадцатые сутки умышленного мора им выставляют полицаи наконец, и нет уже зияния покорности в глазах… Не ослабела еще, видно, не иссякла, не может так просто, так быстро иссякнуть, истлеть безумная, слепая, животно-честная нерассуждающая сила в человеке: в самой вот сути, в клетке, в неделимой частице вещества вот эта жадность есть, уже до самой физической кончины, до окончательного мрака во всяком существе неистребимая, и лишь краюшкой, крошкой, маковой росинкой, наперсточком гнилой водицы помани, как тут же силы жизни, уже свободно, чересчур просторно клокочущие в легком равнодушном теле, перестают проситься прочь, наружу, в землю, чей нутряной влекущий властный холод уже проник в тебя, казалось, целиком поработил; опять ты всем своим составом становишься упрям и прочен, купившись на подачку самую худую, согласным не на сытость даже — на ощущение горячей тяжести в желудке.
Безликие, похожие как капли друг на друга от голода и немощи, в ботинках развалившихся, с ногами, обвязанными тряпками, в прожженных гимнастерках, в сидящих коробом шинелях, без ремней, ползучим гадом, шаткой вереницей плетутся пленные к дымящемуся чану на щекочущий, дразнящий запах приготовленного варева, консервные протягивают банки пустые, котелки, гнусавят, клянчат, молят полицая: «чутка еще добавь, земляк, ради Христа»… «полчерпачка еще, доверху, братец»… мутится с голодухи ум, на все готовность в человеке поднимается ради пустой воды, чуть забеленной отходами муки, и даже если плюнет полицай в посуду, и даже если вмажет черпаком по темени, и даже если выбьет, забавляясь, котелок из рук, то припадет к земле несчастный — тотчас вылижет клочок сырой, пахучий и горячий от только-только пролитой баланды.
Глотнули варева, доверили слепому жребию дележку хлебных ломтиков, один прозрачнее, легковеснее другого, умяли в два укуса, рассосали все до последней самой малой крошки, на землю опустились тесно, плечом к плечу, спиной к спине. Вдруг возбуждение, шум — «подняться и построиться», с десяток полицаев с винтовками наперевес из-за колючки к ним выходят, штурмфюрер Эверс с ними собственной персоной. Овчарки мощные, широкогрудые без лая ярятся неподвижно, клацают зубами. Какой-то список у штурмфюрера в руках, мордатый Филимонов — рядом, переводить готовый слово высшей расы:
— Слушай сюда… в рот! Второй барак! Есть Кукубенко, цел такой? Из строя вышел! А Колотилин кто? Живой, не окочурился? Кузьменько, шаг из строя. А ты куда? Кузьменко? Кузьменок надобно не всех. Кузьменко Алексей Петрович! Разбегаев Николай! Шаг из строя! Пошли!
Читать дальше
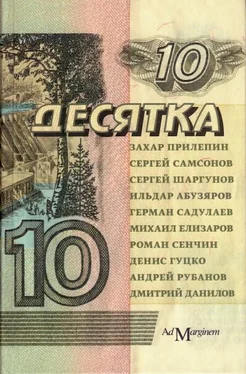
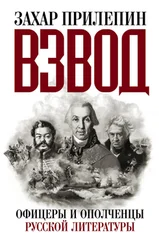






![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны - 2013-2021 [litres]](/books/430624/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres-thumb.webp)



