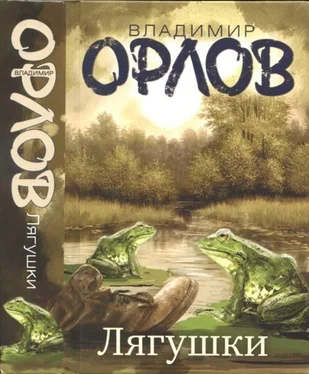"До судьбы договорился!" — удивился себе Ковригин. А перед тем в запале он чуть было не вспомнил вслух о том, что оценить, как молодо и призывно её тело, он смог еще в гостинице Синежтура. Но замолчал в растерянности, признание его могло оказаться бестактным, не исключено, что Натали, по причине возбужденности местным гостеприимством организма, не держала в памяти никаких знаний о визите в номер Ковригина. Или она до сих пор думала, что посещала Василия Караваева, но не дождалась от него чтения сонетов.
Так или иначе, но похвалы её юному облику заставили Свиридову разулыбаться, она даже потрепала короткие волосы Ковригина и заявила:
— Да, Сашенька, мы ещё погуляем, мы ещё поживём без всякой халтуры, без карьерной дури, а просто, как люди-человеки, с любимыми и детишками…
— Кто это мы? — осторожно спросил Ковригин.
— Чего ты испугался? — удивилась Свиридова. — Это не мы с тобой вместе. Это мы с тобой по отдельности. И чтоб у каждого — полная чаша. И гамак в саду. Я закурю?
— О чём ты спрашиваешь? Ты видишь — я одну за одной…
— А теперь, милый Саша, — сказала Свиридова, — поведай мне, пожалуйста, о том, что у вас произошло с Хмелёвой. Что за чудесное путешествие вы с ней совершили. А то ведь узнала обо всём с чужих слов.
Ковригину тотчас показалось, что тихая собеседница, мечтающая об уютах семейной жизни, об изюминах в ромовой бабе, о детишках и гамаке, отодвигается от него в даль грибную, а вместо неё присаживается властная особа, должная государственно знать обо всём и обо всех.
— Тебе это надо? — спросил Ковригин.
— Надо! — резко произнесла Свиридова и так, будто вопросом своим Ковригин её обидел. — Хотя, если не хочешь рассказывать, то и не рассказывай.
— Отчего же… — сказал Ковригин. И рассказал.
Всё рассказал. Даже то, что не смог бы рассказать Антонине. Чувствовал, что в тесноте его рабочей комнаты возникает напряжение, что исповедь его заставляет женщину, о душевной близости с которой он еще полчаса назад помышлял, воспринимать его слова не просто существом любопытствующим и в нём, Ковригине, заинтересованным, но и будто судьей, праведным и нахмурившим брови. Ковригину бы остановиться, а он выложил всё и даже о предбрачной ночи не умолчал. Стало быть, возникла потребность выговориться, видимо, и потому, что рядом с ним сидела собеседница, вызывавшая не одно лишь доверие, а и ещё нечто важное, чему Ковригин пока не торопился подобрать название.
— Какой же ты шелапутный и ненадёжный друг, Александр, — сказала Свиридова.
— Какой есть! — с вызовом произнёс Ковригин. — И шелапутный, и простак!
Теперь ему захотелось надерзить Свиридовой, этой барыне, явившейся просветить и отчитать холопа.
— Наташа (он чуть было не назвал её Натальей Борисовной)… Я был искренен, — сказал Ковригин. — Всё же разъясни мне, ради чего ты напросилась стать курьером? Чтобы разузнать о нашем с Хмелёвой путешествии?
— И ради этого, — сказала Свиридова. — Известное бабье любопытство.
— Ну ладно я, — сказал Ковригин. — Я-то ещё могу оказаться тебе полезен. А Хмелёва?
— Мне понравилась девочка. Я обещала ей поддержку. Но её жизнь — её жизнь. А ты-то чем можешь оказаться мне полезен?
Следующие слова Ковригин долго считал одними из самых дурацких слов в своей жизни.
— А твои надежды на пьесу о Софье! — воскликнул он. — Не хочешь ли, чтобы на этот раз я вызвался стать для тебя душкой-опекуном, способным помочь продолжить подъём к вершинам?
— Это ты говоришь мне?
— Тебе! — не мог остыть Ковригин.
Свиридова вскочила, но сразу и утихомирила себя, нервические движения её снова стали степенно-пластичными.
— Дурак ты Ковригин, — сказала Свиридова. — Ещё и возомнил о себе. И ведь сам знаешь, что пьеса твоя слабая, неуклюжая, с оттопыренными боками, так, вываленный на бумагу материал, и если бы не эти чудики из Синежтура, о твоей писанине никто бы и не узнал…
— Извини, Наташа, — мрачно произнёс Ковригин. — Действительно, я не прав. Пьеса моя дрянь. Я бездарен. Чьим-либо опекуном или хотя бы поводырем стать не способен.
Свиридова стояла к нему спиной, застёгивала пуговицы серебристого плаща.
— Я писал дурацкие "Записки Лобастова" с рекламой дирижаблей, — сказал Ковригин, — и в сотый раз загонял себя в камеру самобичевания. Бездарь я. И теперь раздражение на самого себя срываю на тебе. Извини.
Свиридова застегнула пуговицы, повернулась к Ковригину. Густые волосы её по-прежнему спадали на плечи идеальными волнами ("Пользуйтесь шампунем "Амаретто"), пахли орехами, глаза были сухими (а с чего бы им повлажнеть?).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу