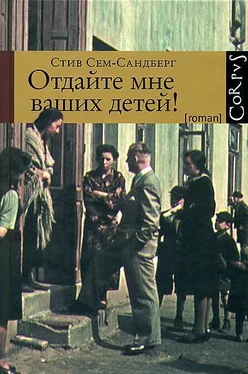Больница находится как раз на границе гетто — но там, где некогда проходило ограждение с колючей проволокой, теперь осталась только вышка. Словно все препятствия уничтожили и немецкие военные машины могут теперь свободно пересекать непреодолимую прежде границу. Больница тоже больше не больница. Она напоминает магазин или какой-то склад. Солдаты загоняют всех в тесный пустой холл перед лестницей, пол усыпан битым стеклом; на лестнице валяются испачканная одежда и то, что осталось от простыней. Коридоры темными туннелями расходятся в разные стороны. Электричества нет. Идут в темноте, на ощупь; всех загоняют в большую комнату — наверное, там была больничная палата. Но коек в комнате не осталось — только грязный пол под окном, в которое льются остатки солнечного света, насыщенного и густого.
Роза, как может, приводит в порядок доверенных ей детей.
Сташек здесь, Либа и близнецы тоже. Она выходит в коридор и зовет Софи и Натаниэля, которые, к счастью, бродят по соседней палате.
Вскоре солнце уходит из окна, и та же угольно-черная тьма, что до этого заполняла коридоры, заползает в гулкие палаты. Становится холодно. У самых маленьких от жажды пересохли и побелели губы. Но никто не приходит к ним, не приносит хлеб и воду. У Розы в сумке полбуханки черствого хлеба; она достает его и делит так, чтобы каждый получил по кусочку. Потом они тихо сидят в сгущающихся сумерках. Снаружи слышен гул — снова приближаются перегруженные машины. Гул вырастает в стену грохота, потом медленно стихает. Слышно, как немецкие офицеры выкрикивают пугающие приказы в пустых коридорах, которые смыкаются вокруг звука, словно вокруг чего-то непристойного. Она слышит шаги, звучащие внутри собственного эха, детский крик и плач — ребенок где-то рядом, но его не видно.
Но здесь не только дети, есть и взрослые. Со своего места у окна, которое ей удалось занять, она как будто видит доверенное лицо Румковского, рабби Файнера — его длинную белую бороду. Рядом молится другой раввин, лицо белое, как обструганная деревяшка, и безбородое — словно птичий скелетик под бахромой молельной шали. И везде слышно, как взрослые ходят волоча ноги, вносят свои тяжелые тела в комнату, а потом вдруг наступает тишина (или детей призывают к тишине), словно они вошли в святое место.
Исчезает последний свет. Холод: от голого каменного пола тянет холодом, тело словно пронзает туго натянутая струна.
Всю ночь и еще долго утром слышится грохот грузовиков, которые останавливаются и снова трогаются, ни на минуту не заглушая моторов; вскоре в палате становится так тесно, что Роза может сидеть, только поджав ноги. Посадив Софи на колено и обняв голову Либы, Роза урывает немного времени, чтобы вздремнуть.
* * *
В тревоге и тесноте, царивших вчера на тракторных прицепах и в кузовах грузовиков, госпожа Гольдберг как сквозь землю провалилась. Но утром она снова на месте. Затянутая в тот же костюм, с теми же щедро накрашенными красным губами она появляется в бледно-сером рассветном свете в больничной палате и делает Розе знак подняться и вывести детей.
В одной руке у Розы руки Сташека и Либы, в другой — Софи и Натаниэля. Они идут по коридору, который теперь залит тихим, обнаженным, словно дрожащим светом. В дверных проемах, скрестив ноги по-турецки или подтянув коленки к подбородку, сидят дети и ждут. Некоторые вцепились в свои миски или рюкзаки. Другие медленно раскачиваются взад-вперед, зажав голову между поднятых колен.
Во дворе в жидком ртутном свете уже ждут грузовики. Сегодня их больше, штук десять-пятнадцать. От широкой каменной лестницы входа и до машин — шеренга настороженных автоматов.
Идя с детьми мимо солдат, она замечает Румковского. Он велел остановить дрожки возле лестницы, так что, прежде чем подняться в кузов одной из стоящих во дворе машин, дети должны пройти мимо него. И чем ближе Роза подходит, тем отчетливее ощущает внимательный взгляд, перебегающий с одного из них на другого. Тощие, хромые, кривые — на них взгляд председателя не задерживается. Есть только одно совершенное дитя — его-то он и ищет, дитя, за которое ему простятся те тысячи, которых он вынужден принести в жертву. И вот на глазах у Розы лицо председателя пересекает трещина улыбки, которую она часто видела, но так и не смогла понять.
Он улыбается, но это не улыбка.
Кто-то сзади вырывает у нее из руки руку Сташека, и она не знает, куда идти. За Сташеком, чей протестующий крик бьет ее наотмашь, или за другими детьми, которые стоят поодаль и зовут ее. Некоторых уже подняли в кузов, да и к Румковскому бежать слишком поздно.
Читать дальше