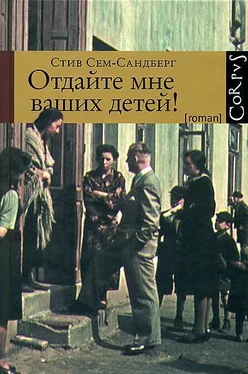— Здесь нет лопат, — говорит Адам. — Я уже искал.
Оба какое-то время молчат.
Потом Фельдман спрашивает, как дела. Адам говорит — ничего, жить можно. Он ходит по домам. Берет что найдется. Во многих садах еще остались фрукты: помороженные и изъеденные червяками яблоки, на вкус как незрелые. На старых участках можно вырыть из земли свеклу. Он даже набрел на свежий лук. Представляешь, Фельдман? Настоящий лук. В одном доме нашел примус. Но без керосина. Думает, не разжечь ли его маслом. Бидон с ламповым маслом, который он стащил на станции, все еще стоит в садовом хозяйстве, но Адам не решается зажигать примус, боясь выдать себя. Здесь по целым дням не бывает никого, кроме немцев, говорит он.
Пока он рассказывает, Фельдман сидит и смотрит на пистолет, лежащий у Адама на коленях. Поэтому Адаму, хочешь не хочешь, приходится рассказать и про Замстага. Он понимает, что выбора нет.
Фельдман долго, очень долго сидит молча; Адаму начинает казаться, что он и не собирается ничего говорить об услышанном. Но Фельдман рассказывает: они на Якуба часто вспоминали про Замстага. Некоторые утверждали, что он уехал с последним транспортом, тем, на котором отправили Румковского с семьей. Кое-кто из его собственных людей говорил, что им дали приказ найти Замстага. Что даже немцы искали его в гетто. Что они боятся его. Бибов — больше всех. Бибов вроде даже назначил награду тому, кто сумеет задержать Замстага живым.
Адам приподнимает пистолет.
Фельдман только качает головой.
«А Бибов?»
Шатается по гетто. Посвятил себя прицельной стрельбе по людям. С непокрытой головой, с закатанными рукавами, с бутылкой в одной руке и пистолетом в другой. Стоит сказать: Бибов идет — и все разбегаются, пока он не показался из-за угла. Из всех dygnitarzy в гетто остался только Якубович. Он отвечал за тех, кто еще работал в Главном ателье, его понизили до kierownika, но он хотя бы избежал депортации, в отличие от прочих шишек. Но теперь Главное закрыли, оборудование разобрали — машины отправят в Кёнигс-Вустерхаузен (они занимались перевозкой всю предыдущую неделю); так что Бибов потерял свое последнее доверенное лицо, единственного еврея в гетто, с которым, вероятно, мог поговорить по душам.
Наконец Фельдман поднимается.
— А когда придут русские? — спрашивает Адам.
Он спрашивает как ребенок. Словами, огромными, как на плакате; рука протянута, словно он ждет, что Фельдман положит в нее ответ.
Но Фельдман только пожимает плечами внутри своего большого пальто. Словно вопрос этот ставился так часто и так долго, что успел обессмыслиться. Может быть, русские передумали спешить сюда. Может, сначала возьмут Балканы. Болгария уже объявила Германии войну. Союзники взяли Бельгию и Голландию, идут на Париж. Теперь это только вопрос времени. Но время, время: что случилось со временем?
— Я замерзну насмерть, пока они придут, — говорит Адам.
По-другому он никак не может выразить свои чувства.
— Не замерзнешь, — отвечает Фельдман. — Такие, как ты, не замерзают насмерть.
И уходит к старому садовому хозяйству — за лопатами.
Адам в одиночестве лежит на досках в подвале Зеленого дома.
Он думает о времени, когда он работал на сортировочной. Обо всем, что они грузили в вагоны и что разгружали. Сначала людей приводили туда, потом уводили. Машины привозили, потом увозили. Он думает о длинных товарных поездах, привозивших по ночам детали машин; как рабочие носили ящики в застывшем свете прожекторов: носили на собственных спинах вниз, к ожидавшим грузовикам. Для самых тяжелых грузов пришлось соорудить люльки, которые краном поднимали в вагоны.
А теперь все это увозят из гетто.
Сколько рабочих могло быть в бригаде по расчистке на улице Якуба? Максимум человек пятьсот, считал Фельдман; женщины отдельно, мужчины отдельно.
Достаточно ли пяти сотен, чтобы уничтожить память о городе, в котором жили сотни тысяч?
Он вспоминает: вот голова Янкеля лежит точно грязное яблоко на гравии и шлаке, растекшаяся кровь склеила мелкие камни. Лида сидит на корточках возле упавшего, безжизненно свесив длинные тонкие руки между колен.
Неожиданно она поднимает глаза на брата.
Позади нее — Гелибтер, Рошек, Шайнвальд Косолапый… спины, пластины лопаток, он столько раз видел, как они поднимались под тяжелыми деревянными ящиками скупыми точными движениями. Он узнал бы эти спины даже во сне — согнутые, или ссутуленные, или гордо прогнутые в пояснице, как у Янкеля, когда он поднимался, выпятив живот, словно не уставал демонстрировать, что висит у него впереди. И вечно улыбался. Вот почему Шальц снова и снова бил его. Чтобы прогнать эту дерзкую веснушчатую улыбку.
Читать дальше