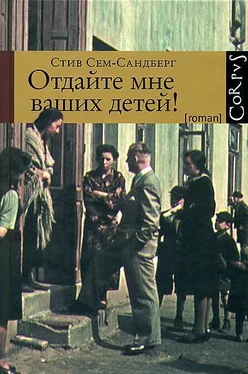В некоторых домах окна и двери были распахнуты навстречу осеннему свету.
Покинутые жилища: спальни с перевернутыми кроватями и торчащими из сетки пружинами, открытые платяные шкафы, из которых наполовину вывалилось содержимое; на полу — затоптанные одежда и постельное белье. В кухнях же — ничего или очень мало чего-то стоящего.
Стоящее — это съестное. В незапертом кухонном шкафу отыскался кусок высохшего хлеба, такого черствого и заплесневелого, что его невозможно было угрызть. Адам попробовал сунуть кусок в рот целиком, но хлеб так и не размяк.
В другом доме он нашел банку консервированной фасоли. После нескольких часов труда ему удалось при помощи камня и толстого долота вскрыть крышку — только для того, чтобы протухшее содержимое ядовитой пеной вздулось у него в руках. А от невыразимой вони он не избавился, даже вымыв руки в колодезной воде и потерев их песком.
В следующем доме он нашел деньги. «Румки». Дно трех ящиков было выстлано клеенкой, а под клеенкой лежали купюры, сотни купюр, аккуратно выровненных, чтобы клеенка нигде не поднялась. Адам стоял с этими ничего теперь не стоившими деньгами гетто в руке. Когда он подумал, как кто-нибудь крохоборствовал и берег эту смехотворную валюту, год за годом, с уверенностью, что когда-нибудь сможет что-нибудь на нее купить, ему стало смешно. Несколько минут он бродил из комнаты в комнату с ничего не стоящими деньгами в руках, подвывая от хохота. Наконец он велел себе успокоиться. Если он и дальше будет растрачивать энергию на истерики, то скоро совсем обессилеет.
Он добрался до Марынарской, до угла Збожовой улицы. На другом конце квартала была Центральная тюрьма, где царил некогда могущественный Шломо Герцберг и куда потом доставляли тех, кого депортировали в составе так называемого трудового резерва. Адам задумался, обитаема ли тюрьма сейчас — например, если в ней устроили казарму, — как вдруг небо раскололось надвое от дикого грохота.
Три самолета неслись на пугающе низкой высоте.
Он беспомощно бросился вперед, прикрыв голову руками.
Через секунду, словно опомнившись, в Лицманштадте завыли сирены воздушной тревоги. От их безостановочного воя, внезапно заполнившего весь воздух, невозможно было спастись. Сирена пилой резала слух. Потом небо снова раскололось, и круто взмыли три самолета; на этот раз их полет сопровождал тяжелые, медлительные удары далеких зенитных батарей.
Адам лежал посреди улицы, там, где его повалило воздушной волной. Он еще никогда не видел немецкие самолеты так близко. Какая-то эйфория понесла тепло от солнечного сплетения к самым кончикам пальцев. Может быть, освободители уже совсем рядом, может, до них всего несколько километров.
Сирена затихла, словно звук каким-то образом свернулся, тут же закричали по-польски и по-немецки взволнованные голоса. Он вытянул шею и увидел, как двое солдат выбегают из углового дома метрах в двухстах от него. Буквально через несколько минут за ними приполз танк, который, видимо, таился во дворе Центральной тюрьмы. Танк какое-то время стоял, направив пушку прямо на Адама. Потом перед танком и позади него забегали фигуры солдат, и пушка медленно, с достоинством отвернулась.
Адам понял: солдаты заметили бы его, если бы не спешили и сами не были перепуганы. И если бы он не лег на землю. Едва они исчезли из виду, как он тут же поднялся и, пригнувшись, забежал в ближайший дом.
Он сам должен был сообразить, какому риску подвергается.
Тишина в гетто, безлюдные улицы, пустые дома — все это только видимость.
В каждом из пустых с виду зданий, мимо которых он проходил, мог залечь у окна немецкий солдат. Взять его, Адама, на прицел и вести ему вслед дулом винтовки.
Об этом нельзя забывать ни при каких обстоятельствах.
В последний раз он был в старом приюте на Окоповой, когда помогал Фельдману сносить в подвал уголь. Зеленый дом тогда уже перестал быть детским приютом и перешел под непонятно чье управление в качестве «дома отдыха» для dygnitarzy гетто. Если где-то в Марысине можно найти припрятанную еду, подумал Адам, так это там.
И все же Зеленый дом словно окружала невидимая стена или ограда.
Адам несколько раз прошел мимо. Ему не хватало духу войти.
Конечно, Лиду держали не здесь. Но было в воспоминании о ее голом, посиневшем от холода теле на пороге другого дома что-то, что изменило образ и Зеленого дома. А может, это было воспоминание о живших здесь детях. Он помнил, как они часто стояли неподвижно, просунув пальцы в ячейки проволоки, протянутой позади Большого поля. Бледные лица как тени. Хотя тогда это был еще мирный дом. Адам помнил далеко разносившиеся громкие детские крики и смех.
Читать дальше