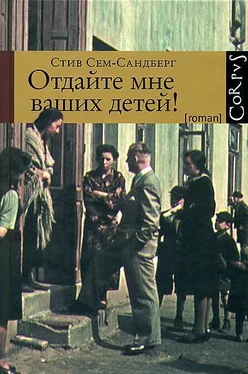В гетто словно было два совершенно разных знания; два мира, существовавших бок о бок, но никак не соприкасавшихся друг с другом.
Но и между этими мирами стены начинали истончаться.
* * *
Es geht alles vorüber
Es geht alles vorbei
Nach jedem Dezember
Kommt wieder der Mai. [34] Всё пройдёт, Все уйдёт. В свой черёд За декабрём Май придёт.
Так он написал, тесно прижимая буквы одна к другой, чтобы хватило места, на бурой засаленной оберточной бумаге — наверное, только такая у него и была; но почерк с характерным легким наклоном влево остался неизменным. Клочок бумаги лег на ее письменный стол утром в первый день нового месяца — безмолвным доказательством того, что Алекс обладал талантом истинного эскаписта проникать через сколько угодно запертых на засовы и цепочки дверей, чтобы доставить свои сообщения. С тех пор как Вера стала слушальщицей, ничья нога не ступала в этот заполненный книгами подвал под архивом. Это она знала с тех пор, как господин Шобек, ортодоксальный еврей, много лет прослуживший главным сторожем архива и единственный, у кого, кроме нее самой, были ключи от нижнего помещения, в конце концов изнемог от туберкулеза и его положили в клинику на Дворской.
Но было что-то особое именно в этом немецком шлягере, который оба они не раз слышали по радио.
«И долго после прихода немцев (рассказывал Алекс однажды) шомримы пели по вечерам немецкие песни; по-немецки, словно чтобы показать: освобождения желают люди всех национальностей». И если Алекс теперь призывал Веру повидаться с ним там, в изгнании, он не мог бы сделать этого лучше, не мог бы сказать ей об этом яснее.
Марысин в мае. Контраст между жарой в гетто, где теперь каждое предприятие участвовало в производстве эрзац-домов Шпеера, и старым городом-садом, который, пробудившись к жизни после ночных дождей, утопал в яблоневом цвете, был невероятным, трудно представимым. Всего в сотне-другой метров от лужи на Дворской, где формально заканчивался «город», тянулись, как по линейке, ряды аккуратно разделенных и заботливо огороженных земельных участков. Вдоль всей Марысинской и дальше, вдоль Брацкой и Ягеллонской обочина казалась одним зеленеющим садом, где каждый участок был утыкан аккуратными рядами тонких палочек, поддерживающих слабые стебельки. Иные участки были такими маленькими, что почти все пространство занимали крохотные парнички, поставленные один на другой или тесно прижатые друг к другу по хитроумной системе — так, чтобы каждому парнику доставалось как можно больше солнечного света.
Она запомнила этот день, который оказался одним из последних проведенных с Алексом.
Алекс проверил ее делянку, как он в шутку называл участок Шульцев, и поливалку, которую построили Мартин с Йоселем и которая теперь поливала не только их собственный, но и несколько ближайших участков. А потом они — вдвоем — медленно гуляли по узким улочкам Марысина.
Небо вздулось ослепительно-синим парусом. Жаворонки бились в воздухе, словно висели, трепеща крыльями, на невидимых нитях.
Трава была теплой.
(Когда Вера описывала эту «прогулку» в дневнике, ей подумалось, что она никогда, даже в Праге, где они с братьями поднимались на холмы возле Збраслава, не думала о природе как о существе, которому присуще нечто человеческое. Вроде волос, кожи или хранящей тепло одежды. Так было в тот день с травой. Она была теплой; теплой, почти как человеческое тело.)
Алекс рассказывал, что работает на цементно-опилочной фабрике на Радогоще; как полицейские из Службы порядка по утрам забирают его и остальных рабочих бригады и вечером колонной гонят назад. По какой-то случайности всю бригаду заперли в том здании на Пружной, где некогда жили шомримы. Туда-то Алекс и привел ее. Было воскресенье, единственный нерабочий день недели. Вера увидела несколько бывших служащих архива и почты — теперь они толкались на лестницах или в очередях в раздаточные пункты возле Балутер Ринг — похудевшие, в изорванной, наполовину сгнившей одежде и в обуви, по большей части состоявшей из намотанных одна на другую грязных тряпок. Далеко не все они были убежденными сионистами — это Алекс объяснил ей уже на обратном пути. Будто это что-то значило! Все равно они сидели здесь, рабочие со всего гетто, согнанные под одну протекающую крышу. Вера достала кое-что из того, что ей с братьями удалось вырастить на своем участке: задубевшие шишки картошки, огурцы, редиску; еще свеклу и капусту, которые они с Мартином мариновали про запас, в качестве «зимней» еды. Другие члены бригады тоже вынули припасенное. Был хлеб и нечто, называемое babka, или lofix, состоящее из суррогата, смешанного с крахмалом; смесь застывала и ее приходилось резать как торт.
Читать дальше