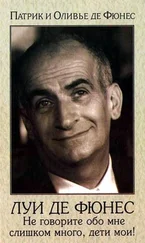Некоторые колонисты решились бежать от этой непонятной жизни: самые прыткие и бесстрашные добрались до Америки, самые настойчивые и пронырливые – до исторической родины; большинство же, промаявшись долгие месяцы на польской границе, помотавшись по лагерям беженцев в Белоруссии, Украине и Германии, стеклось обратно в Гнаденталь – все реки текут, как известно, в Волгу.
Так он и жил, этот новый Гнаденталь, который теперь полагалось называть советским : полуразвалившаяся колония, полуотчаявшиеся жители, полуголодный скот. Лица людей были иссушены нуждою и тоской по собственным детям, чьи могилы – в прикаспийских песках, под галицийскими холмами, за волынским Полесьем, в монгольских степях, у приамурских сопок – очертили обширную географию их скитаний; хлева их были пусты – кони, волы и верблюды перешли в колхозную собственность, а амбары полны ненужного теперь и медленно ржавеющего хлама: именных клейм для скота, конской упряжи, чесал и щеток, маслобоек и сепараторов.
В сердце этого нового Гнаденталя бился днями и ночами над своим заваленным бумагами столом неутомимый горбун Гофман. Зачем понадобились ему пословицы и поговорки? Что за блажь двигала им, когда, едва завидев на пороге тощую фигуру бывшего шульмейстера, он жадно хватал из его рук исписанный листок, пробегал глазами размашистые строчки и, радостно улыбаясь, кивал на подоконник, где уже ждали Баха ежедневная мера молока и чистый лист бумаги – для следующей порции присказок?
Две сотни гнадентальских пословиц и поговорок вспомнил Бах за первую неделю – пять вдохновенных вечеров провел, согнувшись за столом при свете лучины, с упоением выводя на плохонькой бумаге знакомые с детства фразы. Пять стаканов молока получил за них младенец. Странно и немного совестно было Баху продавать чудаковатому горбуну известные каждому в округе грубоватые изречения. Эти наивные бесхитростные словечки любой внимательный человек мог легко снять с губ гнадентальцев во время общих работ или потолкавшись пару дней на любом сельском празднике. Но Гофман платил – жирным козьим молоком за каждый исписанный листок. Платил за воздух. За наслаждение, с которым Бах предавался письму, забывая на время работы и о себе, и о двух вверенных его заботам женщинах.
* * *
На шестой вечер, укачав девочку и уже привычно усевшись за стол, Бах в предвкушении занес подаренный Гофманом карандаш над полученной от него же бумагой – и обнаружил, что все известные прибаутки и присказки закончились. Сколько ни напрягал память, сколько ни блуждал мыслью по гнадентальским дворам и окрестностям, вызывая перед глазами образы словоохотливых земляков, более не смог припомнить ничего. Испугался, что на этом его недолгие письменные опыты прервутся: горбун, утолив интерес к местному фольклору, перестанет выдавать молоко для младенца и бумагу для Баха.
Неровно обрезанные листы, местами бугристые от проступающих грубых волокон, а местами рыхлые, как вата, – эти листы вдруг стали так нужны Баху! С грустью вспоминал он далекие годы учительства, когда на этажерке его грудились тетради, чистые и наполовину исписанные, а бумага – простая (для ежедневного пользования), линованная (для прописей), беленая (для экзаменационных работ), вощеная (для обертывания книг) – лежала стопками на столе и в шкафу. Как глуп и расточителен он был, что не писал тогда, что тратил время на долгие прогулки, еду и бесполезный сон! Теперь же он готов был писать что угодно: людские имена, клички животных, молитвенные тексты, географические названия и названия птиц или рыб, да хоть бы и числительные от одного и до тысячи, – и на какой угодно бумаге – лишь бы вести грифелем по шершавой поверхности, наблюдая рождение букв, лишь бы выпускать из себя слова…
Постучав тупым концом карандаша по набухшей меж бровей складке, Бах решительно выдохнул и застрочил по листу – не присказки, отчеканенные в памяти многократным повторением, а длинные предложения, рожденные движением собственной мысли.
Каждый из двенадцати месяцев года имеет в Гнадентале наряду с латинским наименованием также и второе, более древнее. Так, первый месяц зимы, в книжном и газетном варианте именуемый январем, колонисты в обиходе называют “ледовым”. Февраль хранит в своем просторечном имени – “месяц сбора оленьих рогов” – воспоминания народа о временах до переселения в Россию: германские крестьяне почитали за большую удачу найти в лесу сброшенные рога оленя или косули. Март гнадентальцы называют попросту “весенним месяцем”, апрель – “месяцем травы”, а май – “временем выгона скота на пастбища”. Народные имена трех летних месяцев отражают сельскохозяйственный цикл: “распашка”, “сенокос” и “сбор урожая”. Сентябрь именуется “месяцем заготовки дров”, октябрь – “месяцем вина”, ноябрь – “ветряным месяцем”. Декабрь для колониста полностью состоит из подготовки к Рождеству, что отражается и в его народном названии – “Христов месяц”.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу