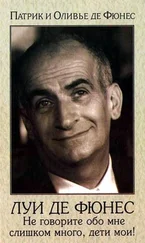Гнаденталь глядел бедно, почти нищенски. Бах плелся по главной улице, держа под мышкой сверток с посапывающим ребенком, время от времени останавливаясь для отдыха. Взгляд выше сугробов не поднимал, но запустение вокруг было столь разительно, что не заметить было невозможно. По обеим сторонам улицы вместо домов зияли дыры: одни каменные фундаменты да ошметки заборов. Многие жилища оставлены хозяевами: слепо пялились друг на друга заколоченными окнами, сутулились давно не чиненными крышами в козырьках слоистой наледи; брошенные у ворот лодки щербаты, с рассохшимися днищами, словно ими не пользовались несколько лет. Пожалуй, жилых домов осталось меньше, чем покинутых: уютный запах кизякового дыма, обычно царивший в колонии зимой, сейчас был еле слышен, разбавлен затхлым духом оставленного жилья. Дорога едва наезжена, будто за всю зиму не проехало по ней и десятка саней; только по бокам ее вдоль заборов едва заметно вились тропки, протоптанные пешеходами.
Успокаивая себя тем, что хоть один колонист к церкви-то придет обязательно, Бах миновал рыночную площадь с тремя карагачами (каждый был почему-то украшен куском красной материи), колодезный сруб, керосиновую и свечную лавки. Оказался у кирхи – замер: ступени погребены под сугробом, на двери висячий замок, белый от намерзшего льда. Картина эта была столь необычна, что Бах позабыл про данное себе обещание не осматриваться в миру, а только прошмыгнуть слепой и равнодушной тенью.
Обошел кирху кругом: зияли разбитые стрельчатые окна. Одно – затянуто тканью все того же красного цвета со странной надписью “Вперед, заре навстречу!”; на морозе ткань задубела – покачивалась на ветру, как фанерный лист, и билась о подоконник с глухим твердым стуком.
Пасторат, однако, глядел жилым: снег у крыльца был расчищен, сосульки сбиты с крыши заботливой рукой. Видимо, пастор Адам Гендель все еще обитал в Гнадентале. Какая невероятная сила могла заставить колонистов закрыть церковь, да еще при живом пасторе? Закрытая церковь – то же, что сухая вода или раскаленный снег. Бах не знал, что такое бывает. Видишь, мысленно обратился к Кларе, не зря я ограждал тебя от мира столько лет. Впрочем, нам с тобой до этого всего уже нет дела.
Здесь, на крыльце пастората, он и решил оставить младенца. Положил тугой сверток на расчищенные ступени, чуть приподнял угол перины, чтобы ребенок не задохнулся. Глянул в черное небо, на упавшее низко к горизонту созвездие Плеяд: близилось утро – пора уходить.
Внезапно подумалось: а чье это все-таки дитя? Которого из трех незваных гостей? Мужика с калмыцкими скулами? Вояки с наглыми глазками? Бледного пацана с прыщавым лбом и кадыкастой шеей? Чье дитя ты вынашивала девять месяцев, Клара? Мысль была мерзкая и мучительная; в иное время Бах запретил бы себе размышлять об этом, чтоб не бередить душу, но сейчас вопрос почему-то не вызвал в душе ничего, кроме равнодушия. Впрочем, в преддверии вечного уединения в леднике надо бы знать ответ – не для того, чтобы терзать себя, а единственно ради установления истины. Стоит ли таиться от правды, если вот она – лежит на расстоянии вытянутой руки и сопит, выпуская из крошечных ноздрей мелкие белые облачка? Бах протянул трясущуюся от усталости руку, откинул угол перины и впервые внимательно посмотрел на новорожденную.
Девочка была похожа на мать, похожа удивительно. Кто бы ни был отцом, он не отразился в ее лице – ни единой линией, цветом или формой. В маленькой, с кулачок, сморщенной физиономии так явственно читались зачатки всех Клариных черт, что Баху стало душно; он стянул с головы шапку, опустился перед крыльцом на колени и приблизил лицо к младенцу, недоумевая, как мог проглядеть это невероятное сходство. Нежнейшая кожица обтягивала знакомый выпуклый лоб, на котором сдвинулись скорбно знакомые бровки, пока еще тоненькие, в несколько волосков; под ними притаились складочки глаз и знакомые же длинные ресницы; нос, размером не более кончика мизинца, уже курносо глядел вверх, и читалась на нем легчайшая золотая рябь – предвестник будущих веснушек. Бах узнавал в этих чертах лицо Клары, как в бутоне степного цветка безошибочно узнал бы будущий тюльпан или мак.
Вдруг понял, что младенец лежит уже не на ступенях, а у него на руках. Что сам он стоит на коленях, держа перед собой сверток – не имея сил ни встать и унести его с собой, ни оставить на крыльце. В доме что-то стукнуло – хлопнула дверь или упал какой-то предмет, – и окно слабо засветилось: верно, кто-то из хозяев проснулся от звука шагов на улице и разглядел в окошко копошившуюся у входа фигуру. Бах спешно поднялся с колен и захрустел по снегу прочь, прижимая к груди спящее дитя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу