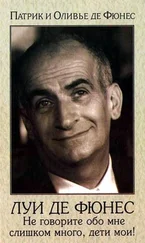Досадливо морщась, распрямил скрюченные ноги, выпростал из-под перины и поднялся с узкой детской лежанки, едва не ударившись теменем о лежанку сверху. Свечную лампу зажигать не стал: свечи пригодятся будущим жильцам дома. В темноте расправил примятый соломенный матрас и, сунув перину под мышку, пошел вон. Ни тулупа, ни малахая не надел, и даже извечный войлочный колпак натягивать не стал – все оставил детям. Пошел, как был: в одном исподнем и наброшенной поверх киргизской тужурке.
Вышел на крыльцо, аккуратно затворил за собою дверь, накинул щеколду. На замок решил не запирать. Оперся спиной о дверь и, держа перину за углы, развернул ее на вытянутых руках.
По лицу и груди хлестала небесная вода. Не обращая внимания на потяжелевшие от влаги рубаху и тужурку, Бах встряхнул перину раз, затем второй, третий – и она заколыхалась в его руках объемистым облаком. Дождевые капли орошали ее поверхность, но не впитывались – отскакивали, как бисер. Пуховая масса послушно бултыхалась внутри, напитываясь воздухом и разбухая.
Из перинных глубин поплыли – и с каждым новым хлопком все отчетливее – запахи прошлого: нежные ароматы детского тела и детских волос, и давно позабытый запах Клары, и шульгауза, и холостяцкой квартирки при нем, и чернил, и бумаги, и книг. А вместе с запахами полетели сквозь ветхий наперник перо и пух: сначала понемногу, затем – все обильнее.
Мелкий пух был похож на муку, на пудру, на меловую крошку – белым туманом отходил от перины. Пух покрупнее походил на снеговую пыль. А перья – полупрозрачные, едва весомые – летели крупными снежинками. Стало светлее – не то от близости рассвета, не то от пуховой белизны, волнами расходящейся во все стороны. Дождь и ветер поутихли.
Плечи и кисти рук устали, но останавливаться было нельзя – и Бах тряс, тряс перину, выбивая из нее все новые потоки белого. Перья летели ему в лицо и гладили щеки, пух застревал в волосах. Не сразу Бах понял, что не слышит больше ни падения дождевых капель, ни гудения ветра, ни шороха ветвей: наступила долгожданная тишина. Раздавался единственный звук – мерные хлопки перины. С каждой минутой она становилась легче – теряя пух, теряла в весе – и оттого трясти ее было нетрудно. И Бах тряс – все чаще, все резче.
Скоро пуховое облако у крыльца сделалось таким плотным, что он не видел уже ни дворовых построек, ни верхушек деревьев за ними, ни нависшего над хутором темного неба. Ощущал только твердость двери за спиной и твердость крыльца под ногами. Все остальное вокруг стало мягким – состояло из одного лишь кружившегося пуха.
Когда наперник опустел и сделался невесо́м – от перины осталась одна холстина, – Бах опустил руки. Поднятые им пуховые вихри постепенно стихали и припадали к земле. Поземка из перьев еще вилась беспокойно – по двору, по скатам крыш, – но все медленнее, все ниже. Бах бережно развесил наперник на перилах крыльца – еще послужит полотенцем или половой тряпкой – и оглядел хутор.
Белый пух укрыл все: землю, стены, крыши, двери и ставни, ограды, огородные грядки, заборы. Под белым покровом стояли яблони в саду, и дубы в лесу, и березы, и сосны. Легким пухом сыпало сверху – не то с крыш, не то с самого неба. Везде, куда достигал взор Баха, был пух, сплошной белый пух. Да и пух ли? Бах шагнул с крыльца – в то пышное и белое, что устилало двор, – и оно заскрипело, сминаясь. Загреб ладонью, положил на язык: не пух – снег.
И воздух, впервые за долгие годы, пах не влагой, а снегом. Из туч, впервые за долгие годы, сыпал не дождь, а снег. И из-за туч этих показалось рассветное солнце – крупное, алое – к морозу.
Утопая по колено в сугробах и подставляя лицо падающим хлопьям, Бах направился к Волге. Не знал почему. Казалось: так правильно.
Обутые в домашние валенки ноги его хрупали по снегу. Ноздри с наслаждением вдыхали воздух – колкий, чуть сладковатый от крепнущего холода – и выдыхали белый пар.
Бах остановился на обрыве и окинул взглядом Волгу. Ее свинцово-серое полотно светлело на глазах, быстро покрываясь пятнами шуги. Ледяная каша волоклась по реке, спаиваясь в шматы и поблескивая в розовых рассветных лучах. Ледовые блины разных форм и размеров тянулись по фарватеру. А где-то вдали, почти у самого Гнаденталя, темнела на воде черная точка: лодка.
Как удалось Баху разглядеть ее полуслепыми глазами сквозь порошу? Но он разглядел. А правильнее сказать – узнал. Не сомневался ни секунды: лодка шла за ним.
Он поднял руки и замахал приветственно: я здесь! Руки, усталые от вытряхивания перины, едва поднимались над головой, плечи ныли, но Бах продолжал махать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу