Но, как ни посмотри, больнее всего криминальные выходки Марка били по его родителям. Для них это было тяжелой карой. Однако, украв у меня деньги, Марк невольно способствовал тому, что я, Билл и Вайолет сблизились еще больше. Теперь мы все трое были жертвами, и запретные темы, существовавшие до кражи, вдруг исчезли. Тревоги, о которых ни Билл, ни Вайолет, стремясь выгородить сына, раньше не смели заговорить, теперь стали постоянным предметом нашего обсуждения. Вайолет то вставала на дыбы из-за очередного предательства пасынка, то прощала его, чтобы потом вновь бушевать и прощать, бушевать и прощать.
— У нас с ним настоящие "американские горки", всегда один и тот же трек, и мы катимся и катимся. То вверх, то вниз, то любовь, то ненависть, — жаловалась она.
И все же, несмотря на отчаяние, Вайолет, словно крестоносец, не собиралась сдаваться. У нее на рабочем столе я заметил книгу Дональда Винникота "Депривация и делинквентность".
— Мы еще повоюем, — твердила она.
Вся беда была в том, что исступленную войну ей приходилось вести с тенью. Вооруженная любовью и знанием, она бросалась в атаку, но биться на поле брани ей было не с кем. Там ее ждал милый молодой человек, не способный оказать ни малейшего сопротивления.
Билл воевать не умел и не прочел ни единой книги о сложностях переходного возраста. Он просто чахнул. День ото дня он становился все старее, все седее, все согбеннее и все растеряннее. Сильнее всего он напоминал могучего раненого зверя, чье мощное некогда тело вдруг ссохлось и съежилось. Припадки ярости, которые захлестывали Вайолет, все-таки держали ее в тонусе. Гнев Билла, если он его и чувствовал, оборачивался прежде всего против него самого. Я с ужасом видел, как он медленно, но верно ест себя поедом. И дело тут даже не в проступках сына как таковых. Ну, подумаешь, удрал из дому, смешал водку с валиумом, умыкнул машину отчима, в конце концов, всему этому можно найти оправдание. Дело не во вранье и не в кражах. Билл смирился бы с любым открытым бунтом, он понял бы любой мятеж. Начни Марк бороться за то, чтобы жить так, как ему нравится, уйди он в конце концов из дома, чтобы следовать своим пусть самым бредовым убеждениям, Билл принял бы и это и не стал бы ему мешать. Но Марк ничего подобного не делал. В нем воплотилось все, что его отцу было наиболее отвратительно: бездумное приспособленчество, лицемерие и трусость. В наших с Биллом разговорах я чувствовал, что сильнее всего его гнетут не проступки сына, а то, каким он вырос. Он потрясенным голосом сообщил мне, что когда спросил Марка, чего ему больше всего в жизни хочется, тот ответил, что он просто хочет всем вокруг нравиться.
Каждый день Билл уходил в мастерскую, но работать он не мог.
— Я хожу из угла в угол и жду, что что-нибудь придет, но, видно, зря. Потом читаю про бейсбол, прогнозы на новый сезон, потом ложусь на пол и разыгрываю в голове матчи, знаешь, как в детстве, комментирую их про себя, а они там себе играют, пока я не засну. Я сплю, даже сны вижу, а потом, глядишь, и день прошел. Я встаю и иду домой.
Что я мог сделать для него, кроме как быть рядом? Я и был рядом. Иногда прямо с работы, не заходя домой, шел к нему в мастерскую. Мы просто сидели на полу и допоздна разговаривали, причем не только о Марке. Я рассказывал ему про нас с Эрикой, жаловался, что в ее письмах всегда брезжит обманчивый лучик надежды на наше "вместе". Мы оба вспоминали детство, говорили о книгах, об искусстве. Где-то около пяти пополудни Билл разрешал себе первый стаканчик и доставал бутылку виски. В течение следующих часов, проходивших "под парами", из окна над нашими головами лился свет, ведь день все прибывал, а Билл, оживившись от выпитого, цитировал Беккета или, воздев перст к потолку, изображал своего дядюшку Мозеса. Со слезами на покрасневших глазах он клялся в любви к Вайолет. Бил себя кулаком в грудь и говорил, что вопреки всему верит в сына. Хохотал над сальными анекдотами и непристойными стишками и молол всякую чушь. Он поносил современное искусство, где башня из слоновой кости уступила место мешку долларов, марок и иен. С болью в голосе говорил, что иссяк, кончился как художник, что двери были его лебединой песней, а теперь все, но через минуту вдруг рассказывал, как его занимает цвет мокрого картона:
— Знаешь, когда после дождя размокшие коробки в грязи валяются. Или их еще иногда складывают и связывают в стопки. Безумно красиво!
Это были трагические часы, и главным действующим лицом этой трагедии был мой друг. Но его общество никогда не было мне в тягость, ибо, находясь рядом с ним, я ощущал его весомость. В нем чувствовалась тяжесть жизни. Мы зачастую восхищаемся чужой легкостью. Люди легкие, ничем не обремененные, которые не ходят, а парят, привлекают нас тем, что обычные тяготы и тяготения будто бы над ними не властны. Их беспечность мы принимаем за счастье. Билл к их числу не относился. Он всегда был глыбой, громадной, массивной, влекущей к себе, как магнит. И теперь меня тянуло к нему еще сильнее, чем раньше. Видя, как он мучится, я забыл о недоверии и зависти. Именно о зависти. Я никогда прежде не задумывался над этим, я бы ни за что не признался даже себе, но тут пришлось. Я всегда завидовал ему — мощному, упрямому, жадному до жизни Биллу, который знай себе делал, делал и делал, пока наконец не понимал, что сделал все как надо. Я завидовал ему из-за Люсиль. И из-за Вайолет. И из-за Марка, хотя бы потому, что его-то сын жив. Такова была горькая правда, но сейчас боль привнесла в его натуру неведомую ранее шаткость, и эта новая неустойчивость поставила между нами знак равенства.
Читать дальше



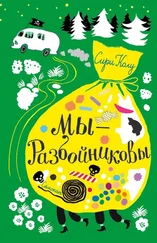




![Сири Петтерсен - Поток [litres]](/books/391409/siri-pettersen-potok-litres-thumb.webp)



