Девочку мне навязал город. Безымянным ребенком она стала попадаться мне на глаза уже вскоре после моего переезда в квартал тряпковаров. По нашей улочке регулярно, раза два в месяц, проезжал старьевщик. Он сидел за рулем тяжелого русского военного мотоцикла, переделанного в трехколесную повозку, на днище которой в большой проволочкой корзине были навалены железки, бутылки, бумага, старые носильные и прочие еще годные вещи. Старик был сейшенцем, о чем, во всяком случае, свидетельствовала похожая на феску и неизменно прикрывавшая его голову шапка из кошачьего меха — единственная еще не исчезнувшая деталь традиционной одежды сейшенских пастухов, которой упорно украшают себя живущие в городе мужчины этой национальности. Старьевщик почти не покидал седла принадлежавшего ему транспортного средства. Жители окрестных домов выходили на улицу и бросали отходы своего житья-бытья в проволочную корзину. А потом старались выторговать себе небольшое вознаграждение. Я=Шпайк тогда еще был любопытным пришельцем, и мое внимание привлекала худенькая девчушка, усердно трудившаяся в корзине. Хватаясь пальцами рук и ног за железные прутья, она с ловкостью обезьяны взбиралась по ним вверх, соскальзывала вниз и сортировала вещи по какой-то системе, выкладывая из них аккуратные стопки и кучки.
Переселение Лизхен из железной клетки на чердак, произошедшее через несколько месяцев после того, как я=Шпайк впервые увидел девочку, и обретение ею имени — это не моя заслуга, как и не моя вина. Старьевщик, можно сказать, сделал меня своим преемником. Прямо перед дверью моего домика он выпал бездыханным из седла своей мотоповозки. Свалился мне чуть ли не под ноги: я=Шпайк тогда в первый раз подошел к корзине, чтобы бросить в нее несколько бутылок из-под зулейки. У старьевщика, вероятно, началось внутреннее кровотечение, произошло прободение желудка, иначе изо рта не вылилось бы на мостовую необыкновенно большое количество темной крови. Шапка из кошачьего меха сползла с головы, обнажив голый череп, обтянутый задубелой кожей с толстыми синими прожилками вен. Оторвав от него взгляд, я=Шпайк увидел, что вокруг новоявленного инородца в моем лице, умершего старца, мотоцикла с тихо стучащим двигателем и девочки в клетке собрались жители соседних домов. Выражение их глаз недвусмысленно говорило о том, что моя свобода действий сузилась до одного-единственного поступка. Но я=Шпайк не знал, что же мне надо делать, и неизбежно навлек бы на себя гнев соседей, если бы решение за меня не принял Суккум. Владелец кондитерской, у которого я каждый день, не слыша слов приветствия и читая на его лице только враждебность, покупал обильно сдобренный орехами и изюмом белый хлеб, взял и кинул мне ребенка. Мои руки не успели бы подхватить девочку, но ее тонкие конечности сами цепко обвились вокруг моего туловища, а несколько кулаков, с силой ударивших меня по спине, не дали мне, пошатнувшемуся и отпрянувшему назад, грохнуться на мостовую и расшибить затылок. После этого мои соседи обратились к имуществу покойника, заново рассортировали весь товар и затолкали его в пластиковые мешки. Даже мотоцикл разобрали на главные узлы и унесли куда-то. Лишь потом пекарь и один из его подручных завернули труп сейшенца в пластиковый тент, положили к голове шапку из кошачьего меха и отволокли тяжелый продолговатый сверток в ближайший укромный двор.
Передача German Fun закончилась. Хайнц не прикладывал пальцев к нагруднику. Центру нечего мне сообщить — в отличие от человека, приславшего депешу по пневмопочте. Только от него, анонима, я=Шпайк узнал, что должен позаботиться о безопасности моего бренного тела. Только ему я обязан сообщением, что сменщик может занять мое место лишь тогда, когда избавит город от моего запаха. Лизхен долго смотрит на пластиковую сумочку, которую все еще сжимают мои руки. Наконец берет ее у меня с колен и начинает рассматривать со всех сторон. Цветочный узор на замызганной сумочке, похоже, ей нравится. Как называется эта вещь, спрашивает она одним взглядом. Голосом, охрипшим в безмолвии последних часов, мне все же удается выдавить из себя точное название. Я=Шпайк уверен, что во времена моей молодости такую сумочку называли Kulturbeutel, сумочкой для туалетных принадлежностей, и предполагаю, что и сегодня на моей родине ее называют так же — во всех случаях, когда сей предмет приходится называть. Лизхен повторяет слово, повторяет беззвучно, лишь очень выразительно шевеля губами — так она делает всегда, когда хочет запомнить новое слово. Потом неожиданно вытряхивает содержимое сумочки, мои с час назад упрятанные в нее бритвенные принадлежности, на подушку телевизионного кресла, в котором мы продолжаем сидеть на некотором удалении друг от друга, разглядывает с мрачной миной бритву, помазок, обмылок, флакон с лосьоном — и вдруг резким движением руки сметает все на пол. Затем соскакивает с кресла и явно намеренно наступает каблуком левого ортопедического башмака на флакон с лосьоном. Помещение тут же наполняется запахом, избыточность и тяжелая неестественность которого в обычных условиях мною уже не воспринимаются. Толстые, с гвоздями подошвы топчут осколки и столь же беспощадно расправляются с бритвой и помазком. Грязную сумочку она бросает мне в лицо. И обзывает меня одним-единственным словом. Бранным словом, которое давно не доходило до моего слуха — вероятно, потому, что ни у весельчака Хайнца с его худосочным немецким, ни в плоских сюжетиках передачи German Fun, ни в моих нелепых, заунывных разговорах с самим собой никогда не появлялась возможность употребить это злое, обидное слово.
Читать дальше
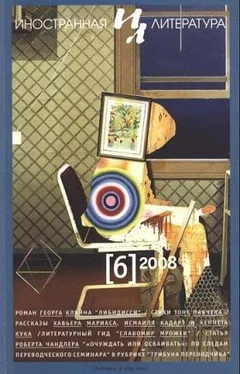




![Лиза Кляйн - Мое имя Офелия [litres]](/books/411796/liza-klyajn-moe-imya-ofeliya-litres-thumb.webp)






