— Ты убегаешь, ты придаешь слишком большое значение таким глупостям — говорил он.
Морис принимал людей такими, какими они были. Он был добрым и терпимым к ним. Он относился к дуракам с презрением и не переживал по этому поводу. А я реагировала на все слишком остро, не могла не ответить жестокостью на жестокость. Я все еще боялась возвращения нацистского террора: раз человеческая природа оказалась способной его породить, то сможет его и возродить. Мы обосновались в Голландии, где Морис получил великолепную работу. Я выбрала дом, потому что наша собачка Джимми задрала лапу именно около его двери, а не у какой-то другой! Я по-прежнему была израненным ребенком, цепляющимся за знаки, которые подают животные, как за спасательный круг. Мне не подходила человеческая шкура. Я обожала Джимми, хотя на самом деле это была невыносимая собака, которая время от времени кусала нас. Он был моим маленьким волком, иногда он выл, как волк: уши прижаты, мордочка по ветру, — а я была в полном восторге от этого зрелища.
Целых пять лет Голландия пахла счастьем. Мой сын жил с нами, у меня был маленький сад, животные, пространство для жизни. Мы совершали длительные прогулки на велосипедах, а еще путешествовали: в Швецию, в Италию, во Францию, в Испанию, в Израиль, в Аризону. Мне нравились пустыня и жара, змеи и скорпионы, а еще цветы пустыни, которые цвели всего одну ночь и умирали на рассвете.
Мне все еще было больно ходить, и Морис решил, что мне нужна операция. Мои ноги, перенесшие столько страданий и помнящие столько дорог, должны были вернуться в нормальное состояние и освободить меня. Но я по-прежнему ничего не рассказывала мужу. В это почти безоблачно-счастливое время кошмары мучили меня гораздо реже, но я все также хотела убежать — двигаться дальше, покинуть Европу, пройтись по новой земле без воспоминаний. Я мечтала об Америке.
Постепенно я по кусочкам начала рассказывать мужу о своем детстве. Морис слушал, утешал меня, он видел, как я заполняю страницу за страницей. Он был терпеливым, сдержанным и постоянно подбадривал меня. Теперь он знал, какие ужасы будили меня по ночам и заставляли трястись от страха. Единственное, о чем я все еще не решалась ему рассказать… о ноже, который воткнула в живот немецкого солдата. Я убила человека и не могла в этом признаться, будто на самом деле была преступницей и меня могли за это осудить.
Я по-прежнему отказывалась ходить к психиатру, хотя Морису пару раз удалось уговорить меня. Я попробовала, но каждый раз возвращалась с чувством глубокого отвращения к тому, как проходила беседа. Значит, меня можно назвать сумасшедшей только потому, что я не люблю людей? Конечно, это легче, чем осознать то, что со мной происходит.
Потом я впервые нормально пообщалась с еврейской общиной. Я как-то раз уже пыталась в Евpone, и раввин, которого я встретила, сразу спросил у меня:
— Вы уверены, что вы еврейка?
Я ушла, хлопнув дверью. Как всегда — глухая стена, пустота и невозможность быть принятой, потому что единственной связующей ниточкой были имена моих родителей и обрывки детских воспоминаний.
Американский раввин просто выслушал и принял меня. Я брала уроки иврита, потом нашла молитвы моей мамы и наконец-то смогла спокойно говорить о ней.
Но умер Джимми. Моя собака — мой волк ушел, а с ним последнее, что связывало меня с воспоминаниями о Бельгии. Я не могу объяснить, почему эта смерть стала началом всего. Я обезумела от горя, оттого что это животное навсегда исчезло, словно я опять потеряла родителей. Это было больше, чем просто скорбь. До этого я сильно горевала, когда умер мой кот, и я не смогла проводить его в последний путь. Это произошло у ветеринара, я была далеко. Я бы не вынесла, если бы еще одно любимое существо постигла та же участь вдали от меня. Если кто-то умирает у вас на руках, то это совсем другое дело, вы находитесь с ним до самого конца и утешаете его. Все смерти похожи на смерть Джимми. Мама, папа, дедушка, Марта. И все, кого я видела, все трупы из моего детства. Кошмары набросились на меня с новой силой. Окровавленный нож, расстрелянные дети, Марек, — я выла по ночам. Я вновь до крови расчесывала старые раны. После траура по Джимми я излечилась сама: сделала небольшой фильм о моей собаке, чтобы она навсегда осталась со мной и воспоминания о ней не исчезли… В глубине души я ни о чем не хотела забывать, мне казалось, что забыть — это хуже всего. От меня слишком часто требовали именно это: забудь о прошлом, забудь войну, забудь, что ты еврейка… забудь волков и свою собаку, у тебя будет другая… Нет.
Читать дальше

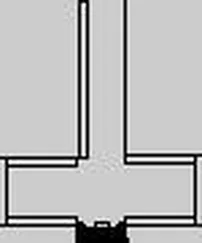



![Карен Рассел - Приют святой Люсии для девочек, воспитанных волками [сборник litres]](/books/396388/karen-rassel-priyut-svyatoj-lyusii-dlya-devochek-vospi-thumb.webp)






