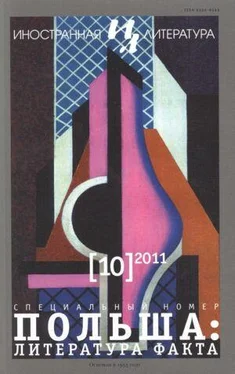На следующий день он умер. Утром я проснулся с тяжким вздохом — вынырнул из глубокого, как колодец, и темного, как колодец, сна. Проснулся, нервно вздрогнув, на полу и с минуту лежал не шевелясь, обводя взглядом светлый прямоугольник окна, постер на стене, которого я раньше не заметил, сосновый стол, кровать, разбросанную одежду. Потом вспомнил вчерашнее и снова вздрогнул, пробормотал себе под нос что-то вроде "примстилось, примстилось" и неуклюже поднялся с пола. А потом вытряхнул из рюкзака вещи, выбрал нужные и пошел в ванную. Споткнувшись на пороге, вошел, пустил воду и долго стоял под горячей струей, неподвижно, с закрытыми глазами, прижав ладони к лицу, — долго стоял, долго, очень долго. А потом отыскал кухню — большое мрачное помещение на самом нижнем этаже, где каждый шаг отзывался враждебным эхом, а каждое перемещение чайника, тарелки, ложки — грозным грохотом, и в чужой кружке заварил себе чужой чай. Потом бродил по коридорам, тихо и осторожно, пытаясь угадать, есть ли в доме кто-нибудь кроме меня, а когда убедился, что нет ни души, набросил куртку и, прикидываясь перед самим собой, будто я вовсе не спешу, торопливо вышел, и по аллее парка, между деревьев, направился на остановку, и на автобусе доехал до центра. Ходил взад-вперед по Плянтам [21] Плянты — городской парк, зеленый пояс, окружающий исторический центр Кракова.
, петлял, сворачивал то направо, то налево, наугад выбирая дорогу, стараясь запомнить названия улиц, выучить их расположение, и в конце концов неожиданно наткнулся на Рынок, где — как и говорил Клубень — стояли тонвагены и спутниковые передатчики, техники со скуки резались в карты на переносных столиках или дремали в кабинах, а выключенные камеры были нацелены в небо.
И когда я так слонялся — взад-вперед, туда-сюда, — позвонил Качка и спросил, что я делаю, а может, часом, ничего не делаю, и в таком случае он меня ждет в "Бункере", выпьем чего-нибудь и поболтаем. Ну и я пошел в ту сторону, которая казалась мне правильной, а потом в противоположную, а потом еще в третью, и наконец пришел куда надо — и мы посидели, и что-то выпили, и поболтали. И тогда Папа умер, но мы об этом не знали. Земля не содрогнулась, на небе не вспыхнул светозарный знак, никто не выскочил из-за столика, не побежал по улице с криком, никто не прислал эсэмэс, и даже звона Зигмунта мы не услышали в гомоне кафе, так что сидели и пили, и болтали себе преспокойно. А потом я пошел на Пилсудского, на остановку, и ждал автобуса, ехал на автобусе, вышел из автобуса, шел по улице, открывал дверь, входил в дом, раздевался, мыл руки; и только тогда подумал, что ведь это могло случиться, и — немного поколебавшись — все же включил телевизор, с пальцев у меня капала вода, я включил телевизор и увидел президента, который говорил: "Ушел великий Понтифик, Папа Римский, наш самый выдающийся Соотечественник, Святой Отец. Добрый отец всех нас, верующих и неверующих, приверженцев разных религий"; а вода капала с пальцев; "многовековая, необычайно глубокая духовность нашего народа породила выдающуюся, прекрасную личность, человека, который сумел так много дать миру"; а руки у меня были влажные, и это было неприятно; "и каждый из нас в этот печальный день счастлив, что нам было дано жить с ним в одно время". Я слушал президента, и мне казалось, что я стою перед огромной белой стеной, стою на огромном белом полу перед огромной белой стеной, и над головой у меня огромный белый потолок. И как будто при этом у меня мокрые руки. А потом президент сказал: "Дай-то Бог, чтобы мы были достойны Твоего ученья, дел Твоих, достойны Тебя", пауза: "дай-то Бог!" А я смотрел на президента, который снимал очки и откладывал листочки с этой замечательной речью, смотрел на него, и вдруг в уме у меня мелькнул вопрос — неясный, но упорно возвращающийся, точно кружащая над головой назойливая муха; я долго не мог найти в себе сил, чтобы сформулировать этот вопрос, но наконец произнес его вслух и только тут понял, что же я спрашиваю; стоя с мокрыми руками перед телевизором в темной комнате, я спросил президента: "А министр Сивец уже поцеловал калишскую землю?" [22] В период предвыборной кампании 2000 г., во время визита президента Александра Квасьневского в Калиш, сопровождавший его руководитель Бюро по нацбезопасности Марек Сивец, выходя из вертолета, осенял крестом встречающих. Квасьневский спросил у него, целовал ли он уже калишскую землю, как это сделал Папа Римский во время своего первого визита в Польшу, и тогда Сивец встал на колени и прикоснулся к земле губами. Последствием этого поступка стала антипрезидентская кампания, обвиняющая власти в оскорблении высшего духовного авторитета нации.
Читать дальше