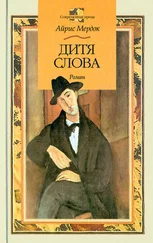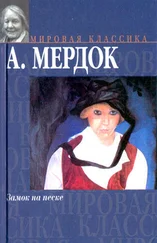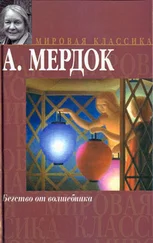— Не беспокойтесь. Мы с Кейси добрые друзья.
Он говорил правду. Мэри и сама обратила внимание, что эти двое по-своему привязаны друг к другу.
— Не мешало бы вам сходить навестить Вилли, — сказала она. — Три недели как с ним не виделись. Вы не поссорились часом?
Тео, по-прежнему сияя, прикрыл глаза.
— Едва ли можно ожидать, что два эгоцентричных неврастеника вроде нас с Вилли будут ладить между собой.
— Вилли не эгоцентричный неврастеник.
— И на том спасибо, милая! Если честно, я дал Вилли отставку на время поста, а там обнаружил, что могу обходиться без него.
— Я как раз собираюсь сейчас к нему, и он непременно будет спрашивать о вас. Что, если вы ему нужны?
— Никому я не нужен, Мэри. Идите лучше приготовьте мне чайку, ладно?
Мэри спускалась вниз недовольная собой. Ничего у меня не выходит, думала она. Эти ее столкновения с Тео, неумение достучаться до него, пробиться к нему, нередко завершались для нее приливом жалости к себе, из-за которой его облик лишь гуще застилало мглой. Мэри, более, чем хотела в том себе признаться, считала оправданием своей жизни на земле талант служения людям. От неудачи с Тео страдало ее тщеславие.
Внизу она застала Кейси, уже не в слезах, а в бешенстве, за яростным приготовлением нового чайного подноса для Тео. Проходя мимо, к задней двери, она услышала, как Барбара наверху заиграла на флейте. Красота проникновенных глуховатых звуков — плод усердных упражнений — действовала Мэри на нервы. Полная неспособность самой запомнить хоть какую-либо мелодию придавала ее восприятию музыки тягостную остроту. Флейта Барбары — при том, что девочка теперь играла совсем недурно — становилась для Мэри едва ли не орудием пытки. Интересно, подумалось ей, где сейчас Пирс — лежит у себя в комнате или прячется где-нибудь в саду и тоже слушает хватающие за душу звуки?
Сад притих в этот летний вечер; воздух, напоенный солнцем и пыльцой, опахнул лицо Мэри теплой пуховкой. Сюда слабее доносился томительный голос флейты. Мэри прошла по выложенной галькой дорожке, вышла за ворота и стала подниматься в гору. По высоким обочинам проселка густо разрослась цветущая крапива, и Мэри, которая любила это растение, сорвала на ходу несколько веточек и сунула в карман своего белого в синюю клетку платья. Ступив под сень буковой рощи, она, охваченная в этот предвечерний час неодолимой истомой, машинально опустилась на ствол поваленного дерева и оседлала его, чуть вороша обутыми в босоножки ногами оборки жухлых скрученных листьев. Ствол, серый и гладкий наверху, загибаясь, уходил книзу под слой листвы, похожий по цвету и на ощупь на слоистый молочный шоколад, и Мэри, сидя верхом на нем и оглаживая его бока, уловила его легкий грибной запах, от которого щекотало в носу. Мысли ее теперь обратились к Вилли Косту.
Что-то грызло ее все чувствительнее в последнее время, и причину этого она видела в своих отношениях с Вилли. Примерно то же саднящее ощущение неудачи, что и с Тео, но применительно к Вилли — все же другое, потому что Вилли она как раз очень любила и трогать его согласилась бы с удовольствием. Он прибыл в Трескоум-коттедж, когда Мэри в нынешнем своем особом качестве уже прочно обосновалась в Трескоум-хаусе, и немедленно приняла этого человека под свое крыло. «Как там Вилли?» — привыкли справляться у нее прочие домочадцы. Мэри первое время не сомневалась, что в недалеком будущем Вилли разоткровенничается и расскажет ей все о своем прошлом, но этого не случилось. Никто не знал наверняка, откуда он родом. Дьюкейн говорил — из Праги, Октавиан — кажется, из Вены. Мэри не строила предположений на сей счет, придя в конце концов к восприятию скорбной европейской загадочности, присущей Вилли, как некоего физического свойства — свойства, которое отзывалось в ней нежностью, какую не вызвали бы никакие конкретные сведения.
Мэри не уставала твердить себе, какая удача, что ей выпало жить среди людей, которых она любит, и что такого количества любви довольно, чтобы заполнить собою жизнь женщины. Она прекрасно знала, чуяла сердцем и понимала умом, что любить людей — самое главное на свете. Но знала также и то, что в глубине души таит недовольство, что на нее нападает иногда беспросветно-мрачное настроение, гложет непонятная тоска и собственная жизнь представляется сплошным маскарадом, где она носит ханжескую личину участливой, сердечной, услужливой особы, которая на самом деле не имеет с нею ничего общего. Причина крылась не в том, что в мире якобы не стало восторга и блаженства, что некогда озаряли ее. Восторга и блаженства, навязчиво вторгающихся ныне в ее сознание, ей в жизни не досталось вообще. В ее любви к мужчине всегда присутствовали нервозность и недосказанность, даже когда речь шла о любви к мужу. Она любила Алистера горячо, но и придирчиво, с оглядкой, как и он ее, и, предаваясь этой любви душой и телом, постоянно оставалась не в ладу с нею. Не умела безмятежно носить ее в себе, уподобясь сосуду, заполненному до краев. Скорее, пожалуй, выдерживала ее, как дерево выдерживает порывы студеного ветра, — недаром к ее воспоминаниям о замужней жизни примешивался образ холода. Не сторонница копаться в себе, Мэри предпочитала обходить вниманием изредка посещающую ее догадку, что этот тревожный, половинчатый вид любви — единственный, на какой она способна.
Читать дальше

![Айрис Мердок - О приятных и праведных [английский и русский параллельные тексты]](/books/35170/ajris-merdok-o-priyatnyh-i-pravednyh-anglijskij-i-thumb.webp)