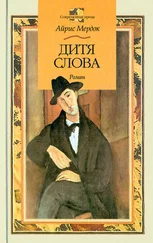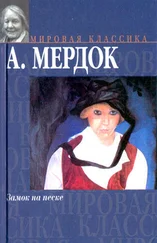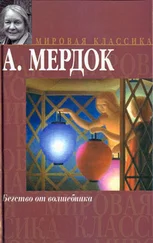Большой стол был весь завален фолиантами, блокнотами, — здесь, по крайней мере, была уж точно зона особого назначения. Дьюкейн тронул одну открытую страницу, другую, делая вид, что просматривает их. Как обычно в присутствии Вилли, он чувствовал себя несколько скованно.
— Так как оно, Вилли?
— Что — оно?
— Ну — жизнь, работа?
Вилли вернулся в комнату и, опершись на спинку стула, окинул гостя бесстрастным, чуть насмешливым взглядом. Был он мал ростом, с тонкими чертами лица и выразительным изгибом узкогубого, всегда немного влажного, чуткого рта. Густая грива длинных седых волос венчала его смуглое, с маслянистым блеском лицо, в карих узких глазах затаилась недобрая ирония. Коричневая бархатистая родинка на щеке придавала ему своеобразную миловидность.
— «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание» [10] Псалтирь, 18:3.
.
Дьюкейн поощрительно усмехнулся:
— Здорово!
— Здорово, полагаете? Извините, я только заварю чай.
Он возвратился, неся чайный поднос. Дьюкейн принял от него чашку и стал расхаживать по комнате. Вилли, с большим стаканом молока, вновь уселся на прежнее место.
— Вот этому я завидую, — сказал Дьюкейн, указывая на стол.
— Неправда.
Да, неправда. Всякий раз, когда они встречались после перерыва, Дьюкейн поначалу — недолго, впрочем, — лебезил, заискивал. Он сейчас снисходил до Вилли, и они оба знали это. Преграду, воздвигаемую между ними этой непроизвольной, как бы машинальной покровительственной лестью, Вилли мог с легкостью устранить своею прямотой, когда у него на то хватало энергии. Порой — хватало. Порой — нет, и тогда он сидел безучастно, предоставляя Дьюкейну в одиночку преодолевать тягостность их встречи. Дьюкейн, надо сказать, умел справляться с этой своей непроизвольной фальшью и без посторонней помощи, только на это требовалось время и усиленная концентрация воли и внимания. С Вилли всегда приходилось нелегко.
— Чему-то — правда завидую, — сказал Дьюкейн. — Может быть, просто жалею, что не родился поэтом.
— Даже и в это не верится, — сказал Вилли.
Он откинулся назад и закрыл глаза. Похоже, сегодня выдался день, когда им владела безучастность.
— Тогда — что хотя бы не состою при поэзии, — сказал Дьюкейн. — Мой хлеб насущный — совсем другое.
Он наугад прочел вслух двустишие на открытой странице:
— «Quare, dum licet, inter nos laetemir amantes:
non satis est ullo tempore longus amor» [11] «Будем же радостно мы отдаваться любви, пока можно: Недолговечна, увы, а мимолетна любовь» пер. Л. Остроумова. «Катулл, Тибул, Проперций», М. 63 «Худлит».
.
Точно живая, возникла перед ним из слов Проперция Кейт — в особенности из этого конечного amor [12] Любовь (лат.).
, столь превосходящего по силе певучее итальянское «amore».
Он увидел, как часто воочию видел по вечерам, мягкую, обметанную легким пушком линию ее плеч. Никогда еще не доводилось ему ласкать ее обнаженные плечи. Amor.
— Пустое, пустое, — сказал Вилли. — У Проперция это расхожие фразы. В этих его двустишиях — бред спросонья. Людям, знаете, свойственно разговаривать во сне, даже поэтам, даже великим поэтам. Единственный вид amor, известный лично мне, — прибавил он, — это amor fati [13] Любовь к року, судьбе (лат.).
.
— То есть — блажь чистой воды.
— Вы так считаете?
— Что любить судьбу — значит блажить? Да, считаю. Случается обычно то, чему не надо бы случаться. Так за что же ее любить?
— Ну не стоит приписывать судьбе целенаправленность, — сказал Вилли, — ее следует рассматривать как механизм.
— Но она не механизм! — сказал Дьюкейн. — Мы с вами — не механические устройства!
— Еще какие механические! Тем и заслуживаем прощения.
— Где это сказано, что мы заслуживаем прощения? Во всяком случае — за любовь к року?
— Это не просто, разумеется. Пожалуй, даже невозможно. Требовать от нас невозможного? Что ж, почему бы и нет…
— Покоряться судьбе — это я понимаю. Но любить? Лишь спьяну, разве что.
— А напиваться — нехорошо.
— Само собой!
— А если пьянство — единственное, что дает силы жить?
— Будет вам, Вилли! — сказал Дьюкейн.
Эти беседы с Вилли порой пугали его. Никогда нельзя было знать наверняка, какой смысл — прямой или обратный — вкладывает Вилли в свои слова. У собеседника появлялось ощущение, будто его используют, будто для Вилли он — все равно что твердая безликая поверхность, о которую можно, как тараканов, давить в лепешку мысли, что преследуют его. Теряясь вчуже, Дьюкейн опасался, как бы его умышленно не подвели к порогу ненужного, если не пагубного признания. Чувство ответственности и в то же время бессилия владело им. Он прибавил:
Читать дальше

![Айрис Мердок - О приятных и праведных [английский и русский параллельные тексты]](/books/35170/ajris-merdok-o-priyatnyh-i-pravednyh-anglijskij-i-thumb.webp)