Неужели этой, посюсторонней жизни мало? Да и речью он, кажется, тоже не наделен. Он ведь даже не находил нужных слов, чтобы описать эту жизнь, чтобы сказать, какой она была на самом деле. Даже не способен был выразить словами, почему не складывались его отношения с Рамоной. Он не в силах был облечь в слова ничего из того, что казалось ему важным и что он мучительно хотел сказать, в том числе ей. И дело тут не в его плохом испанском. К сожалению, преподаватель немецкого ошибался, теперь, в Гаване, он это понял. Но он не мог сказать ему об этом, ведь того человека уже не было в живых. И ходить, тем более держась прямо, он больше не мог. Эти нерадостные мысли одолевали Франца в конце пути. Жизнь-то, она ведь только в дешевых романах белая и пушистая. Хотя порой бывает веселой. Если бы он мог подсчитать, сколько всего секунд и минут в жизни смеялся, то в сумме оказалось бы несколько дней, не меньше.
И все представляется бессмысленным и ненужным. А ведь ему приходилось слышать, как люди говорят, что счастливы только оттого, что есть он. Иногда ему даже казалось, что он сам счастлив оттого, что живет на свете.
Пытаясь обрести некий смысл, он мужественно бросился в море неясных догадок, противоречий и разочарований, и на воде его, словно спасательный круг, удерживали годовые кольца опыта. Он подплывал к этому таинственному смыслу совсем близко, казалось, вот-вот дотянется, — и тут волны сомнений и печали вновь отбрасывали его к берегу, словно купальщика на пляже Патриса Лумумбы.
Однако в гаванском зоопарке, расположенном очень далеко от центра и никогда не посещавшемся не только туристами, но и гаванцами, жизнь показалась ему особенно бессмысленной, просто пародией на его трагедию, в том числе и трагедию с Рамоной, которая спала, совершенно обнаженная, в тридцатиградусную жару, а он, лежа рядом с ней, ощущал тупую боль в спине, оттого что читал и писал сгорбившись. И боль в животе, оттого что лгал. Его жизнь за короткий срок стала настолько запутанной и сложной, что горести, как тяжкая ноша, не давали ему распрямиться. Со скоростью света он несся к чему-то жуткому, совершая какой-то непонятный крутой вираж. Но его взгляд был еще стремительнее. Возможно, от звезд его отделяло расстояние в несколько тысяч световых лет, однако его взгляд за одно мгновение преодолевал расстояние в несколько тысяч световых лет, отделявшее его от прекрасного созвездия — Рамоны, лежавшей рядом с ним.
За стеной были пальмы и море. Он привез с собой множество подарков, болеутоляющие средства и презервативы. Они не порвались. Все обошлось. Бедра Рамоны, отчетливо вырисовывающиеся под тесным платьем из полиэстера-стретч, подчеркивал пояс с кармашком, на котором красовалась реклама «Экспо — 2000». Пояс подарил Рамоне он. Бедра были подарком Рамоны ему — Францу.
Жители Гаваны не любили, когда им напоминают о зоопарке, потому что завидовали животным, ошибочно полагая, что зверей хорошо кормят и что те съедают пайки, предназначенные людям.
Ведь люди голодали. И хотя в фильме они пели одну песню за другой, они уже много лет голодали: ничего не поделаешь, тюрьма есть тюрьма. Если они пытались бежать, им стреляли в спину. На Кубе действительно жили голодающие, запертые в застенках, не важно, попадали они на киноэкран или нет. Франц сомневался в том, что Кастро, ни разу не ночевавший дважды в одном и том же месте из страха перед ЦРУ, а может быть, перед обыденной, негероической кубинской смертью, грозившей ему денно и нощно, хоть раз побывал в одной из тех хижин, которых Франц за такой короткий срок насмотрелся достаточно. Наивный старик, профессиональный революционер с сорокалетним стажем, Кастро чем-то напоминал Марию Антуанетту, явно желавшую своему голодному народу добра, давая совет есть пирожные, раз уж нет хлеба. А он подарил своему народу зоопарк, в который народ не ходил, потому что ненавидел зверей и завидовал им. Если бы кубинцы добрались до зоопарка, то увидели бы, как тихо плачут в своих клетках обезьяны и как они в приступе бессильной ярости, поняв, где очутились, бросают в зевак гнилыми фруктами и экскрементами. И как отощавшие львы, амурские тигры и черные пантеры крадутся вдоль решеток и, мучимые голодом, грызут прутья клетки и, дай им волю, все сожрут, в том числе и самого Кастро.
12
Австрийцев, и Розу тоже, интересовали в первую очередь красочно изображенные Маринелли писательские выступления: в клубе Союза писателей, в Доме-музее Маркеса, в мемориальном комплексе Патриса Лумумбы, в Доме революции и в других местах со звучными названиями. Звучные названия были единственным, что объединяло все эти достопримечательности.
Читать дальше






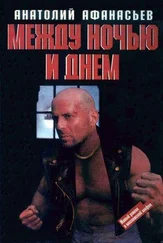
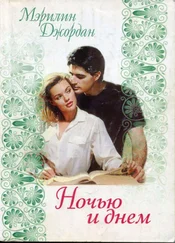
![Наталия Антонова - Однажды летним днем [litres]](/books/431254/nataliya-antonova-odnazhdy-letnim-dnem-litres-thumb.webp)


