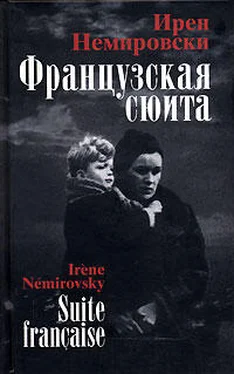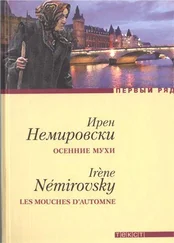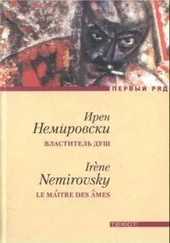— Пойдемте, я покажу вам вашу комнату, — сказала она наконец.
Немец отказался, взял стул и уселся у очага.
— Чуть попозже, если не возражаете. Давайте пока познакомимся. Как вас зовут?
— Мадлен Лабари.
— А меня Курт Боннет (он произносил: «Боннеттт»), У меня французская фамилия, как видите. Предки, видно, из ваших соотечественников, тех, что Людовик Четырнадцатый изгнал из Франции. В немцах есть французская кровь, а в немецком языке — французские слова.
— Ну-ну, — отозвалась она без всякого интереса.
Ей хотелось ответить: «Есть немецкая кровь и во Франции, впиталась в землю с тысяча девятьсот четырнадцатого». Но она не отважилась, благоразумнее промолчать. И вот что странно: немцев она не ненавидела, ни к кому она не испытывала ненависти, но мундир, что появился рядом, сразу из свободной гордой Мадлен сделал рабыню, опасливую, осторожную, изворотливую, способную льстиво улыбнуться победителю, а закрыв дверь, тут же плюнуть, пожелав: «Чтоб вы сдохли!» — так говорила ее свекровь, но свекровь, по крайней мере, не притворялась, не лебезила перед победителями, думала Мадлен, и ей стало за себя стыдно. Она нахмурилась, выражение лица стало отчужденным, она отодвинула свой стул подальше, давая понять немцу, что не хочет больше с ним разговаривать, что его присутствие ей в тягость.
А немец, напротив, смотрел на Мадлен с удовольствием. Как очень многие молодые люди, приученные чуть ли не с пеленок к суровой дисциплине, он привык помогать себе внутренней злостью и жесткостью, считая, что настоящий мужчина должен быть железным. И старался вести себя соответственно во время военных операций в Польше, во Франции и на оккупированных территориях. Но гораздо чаще руководствовался совсем не принципом, а велением сердца, как оно и свойственно молодости. (Мадлен, посмотрев на него, решила, что ему лет двадцать, но ему и двадцати не было — совсем недавно, уже во Франции, едва исполнилось девятнадцать.) Он проявлял доброту к тем, кто ему понравился, и был жесток с теми, кто не пришелся по душе. Испытывая неприязнь, не скупился и зла мог причинить предостаточно. Во время отступления французской армии он сопровождал в Германию колонны пленных. В эти страшные дни немецким офицерам был дан приказ убивать ослабевших, которые начинали отставать, и Боннет приканчивал их без жалости, а тех, кто ему не нравился, с удовольствием. Но с теми из пленников, кто вызвал его симпатию, он становился на удивление добрым и милосердным, кое-кто был ему обязан даже жизнью. Его жестокость была жестокостью уязвимого подростка со слишком живым воображением, подростка, целиком сосредоточенного на себе; страдания других не вызывают в юных душах жалости, они не замечают их, замкнувшись на самих себе. Жестокость молодого немецкого офицера объяснялась отчасти позерством, свойственным возрасту, отчасти склонностью к садизму. Безжалостный к людям, он покровительствовал животным, благодаря его усилиям несколько месяцев назад комендатура Кале издала даже особый указ. Боннет заметил на ярмарке крестьян, которые несли кур за связанные лапки вниз головой. «Из соображений гуманности» носить таким образом кур запретили. Крестьяне не приняли во внимание распоряжения, и Боннет еще больше настроился против «легкомысленных варваров — французов», тогда как французы оскорбились до глубины души, прочитав после призыва к гуманности сообщение, что ввиду саботажа восемь человек приговорено к расстрелу. В северном городке, где до этого стоял на квартирах полк, Боннет очень подружился со своей хозяйкой, а все потому, что та взяла на себя труд принести ему завтрак в постель, когда он лежал простуженный. Боннет вспомнил свою матушку, годы детства и благодарил со слезами на глазах мадам Лили, в прошлом содержательницу борделя. С тех пор он всячески о ней заботился, обеспечивал пропусками, талонами на бензин, а вечерами сидел с капризной старухой, сочувствуя, как он говорил, ее одиночеству и тоскливой старости, когда же ездил по делам службы в Париж, то баловал дорогими подарками, хотя богатством не отличался.
Симпатии Боннета часто возникали по ассоциации с каким-то романом, или музыкальным произведением, или, вот как сейчас в доме Лабари, с живописным полотном: Боннет много читал, музицировал и даже рисовал. Просторная деревенская комната, низкая, полутемная, где в этот дождливый день слегка пахло влагой, розоватый истертый плиточный пол, пустая ниша, куда его живое воображение тут же поместило фигурку Девы Марии, на которую посягнула революция, веточка букса над колыбелью и золотистое мерцанье воды в медном тазу возле очага показались юному офицеру «интерьером в духе фламандцев». Молодая женщина с младенцем на руках, сидевшая на низеньком стульчике, сама казалась картиной — в полутьме светились мягкой белизной ее полуобнаженная грудь, округлый подбородок, выпуклый лоб, а щеки горели румянцем. Глядя на нее, восхищаясь, Боннет ощущал себя словно бы в картинной галерее Дрездена или Мюнхена наедине с шедевром, пробуждающим в нем чувственное и эстетическое волнение, а такие впечатления он ценил превыше всего. На холодность, а вернее, даже враждебность молодой женщины он не обратил внимания, почти не заметил ее. От дома и от его хозяйки требовалось одно: снабжать и питать Боннета художественными впечатлениями, сохранять игру света и тени, радующую глаз в живописи, сияние телесной белизны, бархат потемок на заднем плане.
Читать дальше