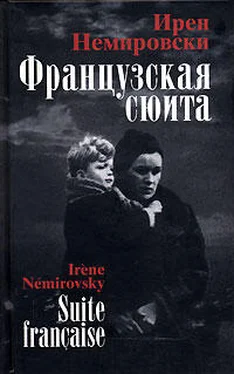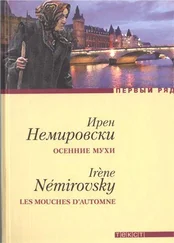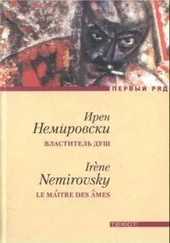Ортанс опрокинула недопитую чашку, ее красное лицо побагровело еще сильней. Она опустила голову и заплакала.
— Больно как… Больно… Здесь больно, — повторяла она, прижав руку к сердцу.
Черствая, жестокосердая, Ортанс редко плакала, редко жалела себя и других, но теперь плакала и она, скупыми едкими слезами, — с такой силой нахлынули на нее гнев, горечь, стыд, она ощущала физическую боль, у нее явственно и неотвязно ныло сердце.
— Уж на что я мужа люблю, — наконец выговорила она. — Мы с Луи, голубчиком, всегда заодно, кроме него, у меня никого нет, он и работник, и не пьет, и за бабами не бегает, в общем, живем душа в душу, но скажи мне сейчас: ты его больше не увидишь, он убит, но мы победили… Так я бы рада была! Ей-богу, не вру, верь, я бы рада была!
— Ясное дело, — смущенно ответила Алин, подыскивая слова, чтобы поддержать золовку, — ясное дело, мы все горюем.
Жюль молча думал, что избежал призыва, сражений и смерти благодаря руке, отсохшей по локоть. И хотя говорил себе: «Мне здорово повезло», — чувствовал в то же время непокой, будто совесть нечиста. Он мрачно сказал женщинам:
— Так оно вышло, вот так. Мы тут ничем не поможем.
Они снова заговорили о Корте. Съев вместо него великолепный ужин, они насытились и смягчились. Во всяком случае, не судили его строго. Ортанс, служившая в доме графини Барраль дю Жё и видевшая там писателей, академиков, даже поэтессу де Ноай, смешила их до слез, рассказывая про их причуды.
— Нет, они неплохие люди, — заключила Алин. — Просто жизни не знают.
16
В городе Периканы так и не нашли пристанища, зато в пригороде, в доме напротив церкви две старые девы радушно отвели им просторную комнату. Дети засыпали на ходу, их пришлось уложить на одну кровать, не раздевая. Жаклин потребовала, плача, корзину с котом. Ее преследовал страх, что кот убежит, потеряется, что его забудут, он станет бродячим и умрет с голоду. Она не могла успокоиться, пока не погладила прутья корзины, не заглянула сквозь них, словно в крошечное окошко, не увидела зеленый сверкающий глаз и длинные сердито встопорщенные усы. Эммануэль затих, его напугала незнакомая огромная комната, он в ужасе смотрел, как по ней мечутся, будто обезумевшие майские жуки, две старушки, восклицая: «Неслыханно! Страдают невинные малютки! Нельзя смотреть без слез! Сладчайший Иисус!» Бернар, лежа на спине, тоже глядел на них, не мигая, и с важным бессмысленным видом сосал кусочек сахару, который три дня носил в кармане, так что к нему прилипли грифель, гашеная почтовая марка и веревочка. На другой кровати возлежал Перикан-старший. Мадам Перикан, Юберу и слугам предстояло ночевать в столовой на стульях.
Сквозь раскрытые окна был виден освещенный луной садик. Яркий ровный свет лился на белые душистые кисти сирени, по серебристому гравию дорожки неслышно ступала полосатая кошка. В столовой беженцы вместе с местными жителями слушали радио. Женщины плакали. Мужчины молчали, поникнув головой. Не отчаяние, а странное оцепенение овладело всеми, никто не мог поверить в такую явь, все отталкивали ее, как спящие отгоняют кошмар, ждут, когда наваждение рассеется: как никак скоро рассветет! — всем существом тянутся к свету и сознают: «Это всего лишь сон, сейчас я проснусь». Люди замерли, затаились, боялись посмотреть друг другу в глаза. Когда Юбер выключил радио, мужчины без единого слова встали и ушли. В столовой остались одни женщины. Они причитали, вздыхали, каждая оплакивала не просто порабощенное отечество, а своего дорогого мужа или сына, еще не вернувшегося с войны. Женщины горевали естественней, проще и были многословнее мужчин: облегчали душу сетованиями, восклицали: «Господи! Что же это делается? До чего мы дожили! Уж поверьте, мадам, это не судьба, это предательство. Нас всех продали. Бедным, как водится, тяжелее всех!»
Юбер слушал их с яростью, сжав кулаки. «Разве мне место среди болтливых старух?» — думал он. Боже! Будь он на два года старше! Податливый, легкомысленный, не по возрасту ребячливый, Юбер вдруг ощутил пробуждение страстей и мук взрослого мужчины: боль за родину, горячее желание пожертвовать собой, стыд, страдание, гнев. «Впервые в жизни происходят действительно важные события, я должен действовать», — думал он. Мужчине не пристало плакать и кричать, что нас предали; пусть он не достиг призывного возраста, но, несомненно, у него больше сил, выносливости, сообразительности, находчивости, чем у тридцатилетних, сорокалетних хрычей, которых отправили воевать. И, в отличие от них, он свободен, у него нет ни жены, ни детей, ни возлюбленной.
Читать дальше