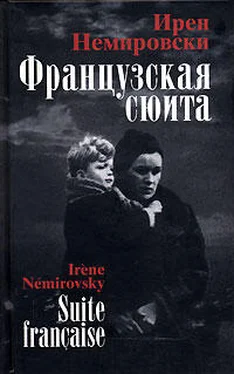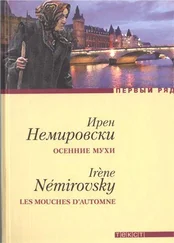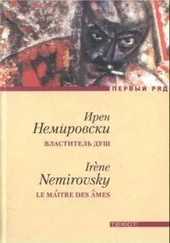— Мне очень жаль, господин аббат, я вынужден забрать у вас грузовик. Необходимо отвезти раненых в Блуа.
Священник кивнул детям, и те стали вылезать из кузова.
— Мне жаль, господин аббат, — повторил офицер. — Вы эвакуируете школьников?
— Сирот.
— Если хватит бензина, отошлю машину обратно.
Подростки, от четырнадцати до восемнадцати лет, с чемоданчиками в руках столпились вокруг священника. Морис потянул жену за рукав.
— Пошли?
— Нет. Подожди.
— В чем дело?
Жанна старалась разглядеть, кого несут на носилках сквозь толпу. Но толпа была плотная, рассмотреть раненых не удавалось. Рядом другая женщина тоже вставала на цыпочки. Ее губы двигались: она беззвучно молилась или твердила чье-то имя. Женщина взглянула на Жанну.
— Все кажется, что твоего несут, верно?
Та в ответ вздохнула. Почему, собственно, ее сын, ее дорогой сыночек, должен оказаться здесь, среди раненых? Может быть, он в безопасности. Даже на самой страшной войне остаются заповедные области, огонь полыхает вокруг, но не трогает их. Жанна спросила:
— Вы не знаете, откуда пришел этот поезд?
— Не знаю.
— Много погибших?
— Говорят, в двух вагонах никто не выжил.
Наконец Жанна сдалась, и Морис увел ее. Они с трудом протолкнулись к вокзалу. Им приходилось перешагивать через булыжники, бут, груды битого стекла. Вот и уцелевшая третья платформа. Закопченный пригородный поезд, готовый везти их в Тур, мирно пыхтел, выпуская клубы пара.
13
Жана-Мари ранило два дня назад; его везли на том самом, попавшем под бомбы санитарном поезде. На этот раз Жан — Мари уцелел, хотя вагон, где он ехал, загорелся. Он слез с полки, дошел до двери и почувствовал: от перенапряжения рана у него открылась. Он почти потерял сознание, когда его подобрали и уложили в кузов грузовика. Жан-Мари лежал на спине, голова свесилась с носилок и при каждом толчке тяжело ударялась об угол пустого ящика. Три машины, нагруженные ранеными, медленно продвигались одна за другой по запруженной людьми, опасной из-за частых обстрелов дороге. Над эшелоном кружили вражеские самолеты. Жан-Мари на минуту очнулся от смутного забытья и подумал: «Вот так же пугаются куры, когда над ними кружит ястреб».
Он вспомнил деревенский дом кормилицы, в детстве он приезжал к ней на Пасху. Залитый солнцем двор, куры клюют зерно, роются в золе, вдруг костлявые руки старой кормилицы схватывают одну, связывают ей лапы, уносят, и через пять минут на землю с тихим неприятным бульканьем струится ручеек крови. Смерть пришла. «Вот и меня схватили, скрутили, понесли, — думал он. — Схватили и понесли. А завтра бросят в яму, голого, худого, похожего на ощипанного куренка».
Он так крепко ударился лбом о ящик, что застонал, у него не было сил кричать; на слабый стон обернулся сосед, легко раненный в ногу.
— Что, Мишо? Худо тебе?
«Дай мне пить, положи поудобней голову и сгони с глаза муху», — хотел попросить Жан-Мари, но лишь выдохнул:
— Худо…
И снова закрыл глаза.
— Ничего, тебя вылечат, — пробормотал товарищ.
И тут начали бомбить эшелон. Мост через узкую реку обрушился; теперь они отрезаны от Блуа; нужно возвращаться, снова разгонять беженцев; в объезд через Вандом они доберутся до госпиталя ночью, не раньше.
«Бедные парни», — думал военный врач, глядя на Жана — Мари, который был ранен тяжелей остальных. Только что он сделал ему укол. И все-таки они двигались вперед. Два грузовика с легко раненными врач отправил к Вандому, а шоферу третьего, что вез Мишо, приказал свернуть на проселок, чтобы срезать по короткой дороге. Но вскоре им пришлось остановиться. Кончился бензин. Врач пошел узнать, куда можно перенести раненых. Теперь они оказались в стороне от потока машин и толп беженцев. Врач поднялся на холм и увидел вдалеке в ласковых спокойных нежно-голубых июньских сумерках сплошную темную массу, до него донеслась резкая какофония сигналов, голосов, он прислушался к зловещему глухому гулу, и душа у него тоскливо заныла.
Обернулся в другую сторону — там виднелась небольшая деревня. Она не опустела, но в ней остались только женщины и дети. Все мужчины ушли на фронт. В один из домов перенесли Жана-Мари, других раненых устроили по соседству. Врач одолжил женский велосипед и сообщил, что едет в город за подмогой, бензином, транспортом — всем, что удастся раздобыть.
«Если парню суждено умереть, — думал он, бросая прощальный взгляд на Мишо, который лежал на носилках посреди деревенской кухни, в то время как женщины стелили ему постель и наполняли горячей водой грелку, — пусть лучше умрет на чистых простынях, а не в грязи на дороге».
Читать дальше