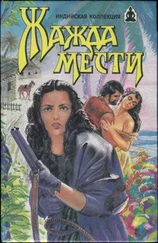Он помнил себя в детстве веселым беззаботным сорванцом, любящим бездельничать, метать ножик-бульдог в забор или играть на залитом солнцем монастырском дворе в салки с сиротами из приюта. Его отец состоял штатным священником в Свято-Воздвиженской женской обители. Весь отцовский род Сухаренко шел с Дона и с незапамятных времен был странным образом связан с двумя мирами: казачьим войсковым духовенством и станичными оседлыми цыганами. Мать Павла рано умерла от чахотки, и он остался на попечении строгой фанатичной бабки, впрочем, страдающей маразмом и потому легко надуваемой. Павел рос еще в старой, милой сердцу кондовой России, в уездном городке с тремя монастырями и двадцатью церквями… Тогда все было другим: и плач одинокой чайки над рекой, и глухое воркование голубя под крышей. Персидский бархат фиолетовой сирени в кувшине на окне был особенно ярок и свеж. И вальсирующая фарфоровая пара на туалетном столике, и едкий запах паровой красильни, и механический голос Мюллеровской Серафины, исполняющей мелодии ста малороссийских народных песен — все, абсолютно все было другим и вот ушло в вечность, сгинуло, как медная брошь в колодце… Павел помнил, как отец, устав от треб и исповедей, брал гитару, мечтательно закрывал свои карие цыганские глаза и тихим лирическим баритончиком напевал переложенные им на струны стихи Аполлона Коринфского:
Обмани меня!.. Набери цветов
В заливных лугах, в славном царстве лжи, —
На меня накинь их живой покров,
Небылицею мою боль сложи!..
Павлу нравились две вещи: старый монастырский собор, где служил отец, и сувенирная лавка, принадлежащая еврею Даугулю. Весной собор преображался. Солнечные лучи пронизывали железные решетки узких окон, перепрыгивали, как через лужи, через отверстия голосников в своде, скользили оп талому льду старых фресок, играли на потускневшей позолоте невысокого иконостаса. Павел любил розово-левкойный аромат греческой плащаницы, пожертвованной каким-то греком Пилтакисом и износимой на середину храма в страстной четверг. А еврейская лавка? Каких там только чудес не было! И секретная чернильница, и музыкальный носовой платок, и детский телефон, и живая картинка «умирающая теща», и бинты для усов, и микроскоп, и парижское зеркало «карикатурист», и американские матерчатые куклы и… еще тысячи забавных мелочей, волновавших детское воображение до бессонницы.
В конце восьмидесятых Павел поступил в семинарию. Пока еще не познавший греха провинциальный юноша очутился в циничном и безбашенном мире столичного студенческого свободомыслия. Одни, в пику анти-раскольнической политики духовной консистории, открыто восхищались мужеством протопопа Аввакума и самими старообрядцами, «донесшими до нас исконно русскую православную культуру», другие втихую ошивались по марксистским кружкам и народовольческим квартиркам, третьи вообще представлялись атеистами, пришедшими в семинарию по указке родителей или ради карьеры. Павел был потрясен содержанием подпольных студенческих журналов, имевших немалую популярность и широкое хождение в духовных школах. «Семиноразмы или фиги духовные», «Поповский лужок», легендарный «Протопетроль», названный так в честь средства от жирных волос, так как волосы духовенства, особенно монашествующего, редко бывали ухоженными, зло издевались над священноначалием и бурсацкими порядками.
Мир, который еще в недавних представлениях Павла был насквозь пропитан Богом, внезапно изменился, стал другим, впрочем, как и сам юноша. Всему виной один случай. Как-то его закадычный друг, тоже попович, но не простой, а из петербургского придворного духовенства, позвал его на одну квартиру, обещая познакомить с «двумя премиленькими курсисточками из Екатерининского». Сначала девчонки, которые оказались взаправду симпатичными, стеснялись, не зная, о чем говорить, долго и нудно рассказывали о посещении их института императрицей Марией Александровной и о феерических живых картинках, изображаемых воспитанницами для августейшей особы под «Прощальную песню» Глинки. Затем попович куда-то сбегал и принес толстого стекла прямоугольную бутылку с надписью «Ромъ Сенъ-Джеисъ». После первых обжигающих глотков настроение изменилось, пошли фривольные разговоры, неприличные смешки и, наконец, танцы под самоиграющее пиано-мелодико. Цветочные девичьи духи свели Павла с ума, до одури он целовался с одной из курсисток, потом лег с ней в спальной комнате. На следующий день попович ёрнически поздравил его: «Ты, брат Павлушка, теперь уже не отец вставатий, а отец всоватий!»
Читать дальше