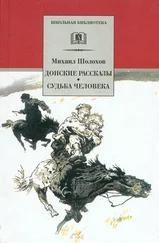Но она была стара, часто болела, с трудом передвигалась — её мучила подагра. Чтобы помочь оправиться от недуга, школа (или Академия — не знаю кто) по предписанию лекарей отправила её на кавказские грязи лечиться. А к нам, пока её лечат, пригнали из РОНО или ГОРОНО обыкновенную училку русского и литературы.
Вы представляете, что это было для нас — вместо смолянки получить фиг знает кого, да еще из ГОРОНО. Ну, и началось… Как раз в ту пору в Ленинграде происходила замена старых царских трамваев на новые — советские. Старые, хорошо нарисованные, органично вписывались в город: небольшие — пропорциональные к человеку, с удобными подножками, ажурными решётками вместо дверей и огромной «колбасой», на которой почти всегда висела гроздь безбилетных пацанов. Вместо них, любимых и удобных во всех отношениях, появились длинные, тяжеловесные, с «обрубленными» носами, без подножек, с механически открывающимися дверьми, с диким грохотом и скрипом передвигающиеся, крашенные в нахально-красный цвет — утюги на колёсах. Питерский народ сразу же обозвал их «американками».
На них уже нельзя было бесплатно проехать с Петроградской стороны или Коломны на Васильевский остров к Академии художеств. Мы, сэхэшовцы, возненавидели эти новые утюги-трамваи.
И ещё одна особенность того времени, повлиявшая на события: модные тётеньки стали носить длинные, ниже колен, вязаные кофты с низко посаженными огромными карманами на уровне опущенных в них рук. И эта училка пришла к нам, сэхэшатикам, в Академию художеств (мы тогда там обитали) в такой дурацкой кофте, да ещё отвратительного «трамвайного» цвета. К тому же она, как говорят в народе, была поперек себя шире и практически не имела шеи. Повернуть голову не могла — не на чем, поэтому разворачивалась только всем корпусом. Из-за своей грузности передвигалась по нашим длинным коридорам тоже интересно. Трогалась с места, от шага к шагу медленно набирала скорость, затем, по надобности, её постепенно снижала и останавливалась. Эта фигура, манера двигаться всем корпусом, звон ключей в огромных карманах «трамвайной» кофты напоминали нам новые ненавистные «американки». И мы прозвали её Трамваем. Но если она — Трамвай, то мы — пассажиры! Значит — поехали!..
Ученики всех классов, где она преподавала, сговорились и стали на уроках русского и литературы изображать пассажиров трамвая. Совместно разработали сценарий, как в классической итальянской комедии дель арте — с правом ежедневной импровизации. Идеи для импровизаций приносили из тех же «американок», ведь мы каждый день ездили на них в школу со всех концов города. Некоторые обязательные сюжеты повторялись изо дня в день, то есть были ритуальными. Литературно-трамвайные уроки начинались с того, что один из нас — по очереди — непременно опаздывал. Только Трамвай открывала классный журнал, как вдруг дверь резко распахивалась, и в класс, как на подножку, вскакивал опоздавший. Училка пугалась: «Что такое? В чём дело? Откуда ты взялся?» — «Извините, я вышел из-за угла, смотрю — а он набирает скорость. Мне пришлось вскочить, чтоб не опоздать. Виноват». Она либо выгоняла, либо впускала — по-разному. «Вскакивание на подножку» происходило в каждом классе.
Едем дальше. Училка начинает классную перекличку: «Герасимов Александр, Герасимов Михаил (у нас их было два), Михалёв Борис, Хазов…» — а его нет. Вставал заика Осипов, староста, и говорил: «А он з…з…з…здесь, в со…о…седнем ва…ва…ва…гоне».
Помните, в старых вагонах к потолку подвешивали ручки-держаки на брезентовых ремнях? За них стоявшие пассажиры держались во время движения трамвая. Так вот, когда «красная кофта» вызывала нас к доске отвечать урок, мы шли к ней от своих мест, хватаясь за держаки, словно бы висящие в воздухе, и отвечали, держась за несуществующую ручку. Когда она требовала опустить руку, сэхэшовец отвечал, что это опасно, можно не удержаться, трамвай движется. Она ничего не понимала в нашем «итальянском» театре.
Неизвестно, откуда приехала к нам в Питер эта «литературная» тётка, но по-русски она говорила ужасно. Подлясская к тому времени нас, детей войны, научила правильной русской речи, а «вязаная кофта» говорила, как запрещала нам смолянка: «рэмень», «пионэр», «кювэт». В отличие от Подлясской, лекций она не читала, а шпарила по учебнику. Когда пыталась что-то рассказать, получалась такая тарабарщина, такая дикость, что нас «трясло» в эти моменты, как будто мы едем в неисправном трамвае и по очень неровным рельсам. Стоило ей неверно произнести какое-нибудь слово, мы резко — вжжжик, как при толчке, — сдвигали в сторону столы и выкидывали сумки или портфели в проходы. Но самое коварное в этих проделках было то, что мы всё выполняли чрезвычайно серьёзно, то есть работали, а смеяться во время работы запрещалось категорически. За смех наказывали «лявой» — очень болезненная и очень неприличная казнь. «Трамвайная» наша жизнь продолжалась год, изо дня в день, с разными добавками: с безбилетчиками, с заходами старшеклассников в роли контролёров в середине урока и тому подобным.
Читать дальше

![Эдуард Кондратов - Без права на покой [Рассказы о милиции]](/books/185926/eduard-kondratov-bez-prava-na-pokoj-rasskazy-o-mi-thumb.webp)



![Эдуард Кочергин - Крещённые крестами. Записки на коленках [без иллюстраций]](/books/234406/eduard-kochergin-krechennye-krestami-zapiski-na-kol-thumb.webp)