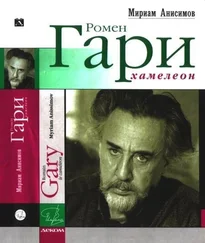— Жак.
— Ты даешь все, что человек упустил в жизни. Вот, к примеру, моя мать умерла в сорок третьем, не зная, что Франция освобождена и что я жив. Теперь она знает. Она услышала.
— Это святотатство, разве нет?
— Нет. Потому что я не способен на такое святотатство.
Она положила ладонь на лицо Ренье и провела ею по его лбу, рту, подбородку, очень пристально смотря на него, как будто уже сейчас хотела убедиться в сходстве. И быть может, он вернется, и даже раньше, чем он сам думает. Впрочем, достаточно было кому-нибудь из высокопоставленных лиц влюбиться, и все было бы кончено. Разумеется, требовалось, чтобы этот человек занимал уж очень высокий пост.
— Жак…
— Что?
— Ведь есть и другие способы быть вместе.
— Отнюдь. Есть только один — один-единственный. К счастью, тут нет богатства выбора. Все остальное — это лишь способ уставать.
— Послушай.
— Все остальное — от нехватки средств. От невозможности самовыразиться. Можно, к примеру, строить дамбы и небоскребы или поворачивать реки: но это лишь способ не ласкать тебя. Можно взяться всем вместе, сколько нас есть, и попытаться построить, но это получается только вдвоем…
Он прервался, вспомнив Ла Марна, и рассмеялся.
— Я куплю себе словарь арго, — сказал он.
— Словарь арго?
— Да. Чтобы не увлекаться больше. Чтобы не терять больше телесной оболочки. Чтобы твердо стоять ногами на земле, а что? Знаешь, чтобы остаться на земле, нужно трижды сказать «чертов дурак», ведь говорят же трижды pater noster, чтобы отправиться на небо.
Случалось все же, он вставал и шел за пачкой «Голуаз» к Марио. Однажды утром, придя в кафе, он натолкнулся на Ла Марна, который устроился на террасе, — пальто он набросил себе на плечи и походил на старую левантийскую птицу.
— Ну как? — спросил Ренье. — Что нового в мире?
— Ничего. Кроме того, что де Латтр умер, а сын Леклерка в плену.
Ренье закурил и пошел прочь.
— Я буду ждать вас в Марселе, — крикнул Ла Марн. — Через три дня.
Ренье обернулся:
— Через сколько?
— Через три дня. Корабль отплывает четвертого, вам это отлично известно.
Он проводил глазами удалявшегося крестоносца.
— Наши предки галлы, — проворчал он.
Ренье вернулся домой. Он лег рядом с Энн, глупо сжав в ладони пачку синих «Голуаз». Он так и лежал, безмолвный, с закрытыми глазами, и тогда она взяла его руку и прижала к своей щеке, чтобы помочь ему. Он молчал. Он не мог с ней об этом говорить. Уважительных причин не было. Ничто не оправдывало абсурдность расставания с ней. И самые ясные доводы становились виновными, стоило ему прикоснуться к этой щеке, погладить эти волосы, и все, что он мог сделать, это дать ей послушать, вот так, щека к щеке, и прокричать ей все это молчаливо, в каждом биении своего сердца.
Выслушай меня.
Все так ясно.
Невозможно колебаться.
Прошлой осенью я был в деревне под названием Везелей.
Я не стану тебе ее описывать. Ты ее знаешь. Когда ты читаешь басню Лафонтена, это там, когда ты читаешь Ронсара или Дю Белле, это тоже Везелей, все очень хорошо передано, очень прочувствованно. И разумеется, когда ты читаешь Монтеня, ну это уж точно урок Везелея, это Везелей, описанный изнутри, чтобы показать, как все устроено.
Уверен, что теперь ты видишь деревню и пейзаж вокруг этого сияния огней тоже — порой оно умело удаляется ровно настолько, сколько нужно ясности как основания для таланта.
Я поехал туда в ту пору, когда только-только вспыхнула война в Корее, чтобы вновь окунуться в благотворную среду.
Здесь я открываю скобку. Идеалисту очень трудно жить в Везелее. Все-то там достигнуто. Все блюдется. Там нет ни одной из тех темных и будоражащих воображение зон, что так искушают любителей заглянуть в будущее и позволяют им отдаться искушению. Это счастье, полностью уместившееся на ладони, так что в этом благословенном месте настоящий идеалист не может не испытывать некоторое чувство досады и слабое — то вспыхивающее, то гаснущее — желание начисто смести все это, чтобы ничто уже не расстраивало вашего вдохновения.
Но не будем об этом.
Я просто хотел сказать тебе, что прочел на обелиске павшим, воздвигнутом в Везелее.
Там есть четыре имени, выгравированные на граните, и это имена бабочек. [28] Игра слов. По-французски бабочка — papillon.
Сначала идет Папийон Огюстен, павший в 1915-м, а затем Папийон Жозеф, а затем Папийон Антонен. А спустя двадцать пять лет снова есть имя Папийон Леон, павший в 1940 году.
Читать дальше