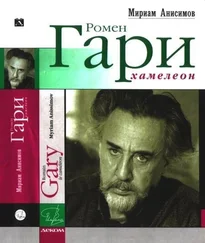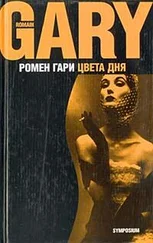Голые растрепанные березы, как сиротки в поисках матери, сходились к лесу; вороны каркали, как льстивые царедворцы, лишь подчеркивая величие тишины; озера были невидимы, но под трехметровым слоем льда обитали сирены, питаясь одним лишь народным воображением сказок. Иногда, сверкая сталью, мимо пролетали на своих белых конях кирасиры императорской гвардии, галопом пересекая реку. Лисы, а иногда и волки при нашем приближении замирали на мгновение, чтобы тут же скрыться в своих норах, оставляя за собой звериный запах, еще долго хранимый неподвижным воздухом. Из конских ноздрей шел пар, спина кучера Ефима стеной возвышалась перед нами, казалось, у него нет головы, а только высокий воротник; когда молчание начинало тяготить его, он оборачивал к нам лицо под овчинной шапкой и спрашивал:
— Затянуть, что ли?
— Затяни, — отвечала Терезина.
Тогда из глубины своих легких, где, казалось, мог уместиться весь воздух Святой Руси, Ефим извлекал напев, мелодия и слова которого окружали нас: они словно слетали с сиротливо застывших деревьев, появлялись из белесой дымки, из белого пространства без конца и края, падали с неба — скупого торговца мукой, сыплющего медленно, словно сожалея, редкие хлопья. Терезина прижималась ко мне, склонив голову на мое плечо. Я чувствовал холодок от ее носа на моей щеке. Я был грустен, зная, что это была не нежность, а просто необходимость дружеского участия. У нас дома было четыре щенка. Она возилась с ними, а когда они ей надоедали, наступал мой черед. Я терпеливо ждал, поскольку она была справедлива и не пренебрегала ни одним из нас. И теперь, под теплой полостью, сжимая руку моей «сестрички» в своей, обняв ее за плечи, прижимаясь ногой к ее ноге, я вдыхал ее теплое дыхание и, глядя пристально в небо, старался думать о Боге, поскольку мне мешало возбуждение, длившееся порой на всем протяжении прогулки, и лишь набожные мысли позволяли мне иногда расслабиться.
— Терезина, почему ты так любезна со мной и так сурова с моим отцом?
— Потому что я люблю тебя.
Я сконфузился — ведь если она могла сказать это так спокойно, значит, в ее глазах я все еще оставался ребенком. Мне захотелось умереть.
— Это жестоко, — пробормотал я.
Она пожала мне руку. Она приблизила ко мне свое лицо, и я заметил, что глаза ее грустны. То была грусть, исходящая от нежности и мало-помалу переходящая в улыбку, но и улыбка эта не была веселой. В волнующемся мареве рыжих локонов я различал лишь ее глаза и нос.
— Я знаю, ты всегда будешь любить меня, — произнесла она. — Всегда. Я никогда тебя не обману. Я всегда буду в тепле твоих воспоминаний, и ничего со мной не случится. Я стану еще красивее. Благодаря тебе, уже давно мертвая, я останусь вечно живой и молодой. Ты будешь без конца приукрашивать меня. Ты сохранишь меня, и никто больше не отнимет меня у тебя. Твой отец говорит, что ты станешь писателем, что ты обретешь способность воплощать все, на что только глянешь своим внутренним зрением. Воплоти меня, Фоско…
— Терезина…
— Нет, не говори ничего. Да ты и не сможешь высказать. Так лучше. Надо чувствовать. Слова часто жульничают.
Я сделал, помимо своей воли, движение, чтобы обнять ее, ей-богу, я сделал это не намеренно, я ведь знал, что это невозможно. Мне и теперь случается делать подобные жесты, но женщина, которую я обнимаю, всегда другая.
— Нет, Фоско… У нас в Кьодже есть одна пословица: «Счастье с хлебом не едят…»
Это, должно быть, разумно, но в ожидании я мог умереть от голода. Я наверстал упущенное, как обычно, у Проськи.
Гостеприимный дом располагался близ места, называемого «болото» — весною тающие снега преображали округу в топкую трясину. У Проськи содержались полячки, цыганки, еврейки, худышки и толстушки; сама мать Курва была густо наштукатурена и нарумянена, рот ее напоминал трещину, по краям стертую от употребления; слой грима, казалось, увеличивался год от года, скрывая черты под застывшей маской; лишь подслеповатые кротовьи глаза жили своей подмигивающей жизнью. Когда она со свечой в руке спускалась или поднималась по лестнице, чтобы принять или проводить клиента, ее браслеты, ожерелья, серьги звенели, как бубенчики на тройке. Когда она с преувеличенным раболепием рассыпалась в восторгах гостеприимства, величая какое-нибудь Превосходительство, раскрашенная маска покрывалась трещинами, как старая штукатурка. Она влепила мне в щеку слюнявый поцелуй, который я тут же стер рукавом; эта рожа, словно победившая время по милости некоего божества гниения и вечно близоруко лезущая навстречу, вызывала у меня тошноту. И еще эта ее вечная улыбочка, пошлая в своем глубоком и мерзком знании жизни, все видевшая, все надкусившая, все проглотившая и все же ненасытная, — такой осталась в моей памяти старая Проська. Я был уже слишком чувствителен к красоте, чтобы смеяться над безобразием, и, как мог, старался не выказывать отвращения. Сводня схватила меня за руку, втащила внутрь и заперла дверь. Она подняла свечу, чтобы лучше разглядеть мое лицо, и расплылась в улыбке, показавшейся, наверно, оттого, что она держала меня за руку, еще более отталкивающей. Она возвела очи горе — выпучила в свете свечи грязно-голубые зенки и запричитала:
Читать дальше