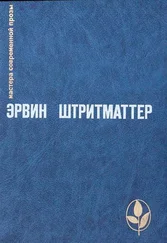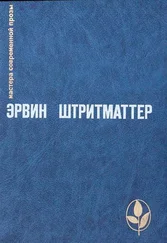И она исчезает, а Фердинанд остается в одиночестве между цветов и листьев. Он встречает садовника Гункеля и не без задней мысли сообщает ему, что у него расцвели розы. Была тут и крапива, и сныть. Словом, потрудиться пришлось не на шутку, зато теперь можно насладиться радостью содеянного.
Правда, среди цветов нет покамест достаточно темных экземпляров, чтобы милостивая фрейлейн могла их взять за основу для выведения совсем черных роз, но все равно поглядеть стоит и на эти.
— Да ну, — отмахивается Гункель, — ерунда все это, черных роз еще никто не выращивал, кроме старого Зарассани в разбойничьем притоне. Он пишет, что для этого розы надо поливать человеческой кровью. Чепуха все это. Я таких вещей не признаю. По мне, так лучше хороший персик, либо крупная слива, либо еще чего.
И снова Фердинанд торчит в полном одиночестве за своим забором. Человеческой кровью? Если бы он мог каждый день выдавливать из пальца наперсток крови, чтобы удобрять самую темную из своих роз! Разве не таких поступков, не таких жертв ждет от него Кримхильда? И тогда в один прекрасный день он пошлет ей с неизвестным в этих краях гонцом букет черных роз. И она молча возьмет в руки предмет своих мечтаний.
«Кто вывел эти розы?» — «Мне не дозволено говорить об этом, милостивая фрейлейн, но кто же мог их вывести, как не любовь, та единственная сила, которая дарует человеку способность кровью сердца питать цветы для своей возлюбленной?»
Мечты, мечты!
На лужайке перед господским садом Матильда возится с бельем. В сердце у Фердинанда нынче праздник. И он хочет привнести в безрадостную жизнь Матильды хоть немного сладости от этого дня. Он срывает с куста одну из своих роз. Ничего не замечая вокруг, будто тетерев на току, приближается он к Матильде. А она его все равно не видит. Тут он со щенячьей неуклюжестью предпринимает попытку прикрепить эту розу к вырезу ее платья на округлом возвышении пышной груди. Она взвивается, словно он ее кольнул.
— Ты что, спятил?
Торопливым движением Матильда оттягивает платье, и роза соскальзывает в ложбинку между грудями. Фердинанд, словно отрезвев, отшатывается назад. Матильда украдкой косится на свои окна.
— Опять он начал пить каждое воскресенье, да ты и сам знаешь, какой он противный, — шепчет Матильда вслед Фердинанду, который уходит прочь с оскорбленным видом.
Итак, Фердинанд остается один-одинешенек со своим счастьем и своими розами.
«Можно сказать, что мы перешли с одиночеством на „ты“ — заносит он в свой дневник. — Но что это, начало возвышения или упадка?»
А у Лопе свои заботы: на кухне ему почти не удается читать: мать всякий раз непременно придумает для него какое-нибудь дело. Стоит ему сесть за книгу, как у нее уже готово очередное поручение. Ну ладно, он его выполнит. А Труда тем временем взяла да и залистала страницу, на которой он остановился. Потом Элизабет требует, чтобы он выстругал ей кораблик из бузины. И в довершение всех бед заявляется отец от парикмахера и, сплюнув на пол табачную жвачку, ищет, к чему бы прицепиться. Всосанный с водкой дух противоречия не дает ему покоя. И Лопе снова ищет спасения в своем закутке на сеновале. Здесь, в запахе свежего сена, под сытое гудение слепней, книга уносит его в далекую страну. Человек, которого он про себя называет «Толстои» с ударением на «и», пишет об этой далекой стране. В конюшне ржет отцовская кобыла. Неужели уже время задавать корм? Кто-то хватается за лестницу, и в лестничном проеме над верхней перекладиной возникает раскрасневшаяся от водки физиономия отца. Лопе съеживается в сене, что твой зайчишка, и, распластавшись, ложится ничком на книгу. Отец, спотыкаясь, ходит по сену. Оказывается, он и сам отыскивает укромное местечко, где без помех сможет заспать свой хмель.
— Ах ты, гаденыш, ты опять здесь?
Лопе выпрямляется и, спасая книгу, сует ее за пояс штанов. Отец плюхается в сено. Его глаза вращаются, как у лягушки, которая, обознавшись, угодила вместо пруда в яму с гашеной известью. Но потом даже эти залитые водкой глаза угадывают робкую мольбу во взгляде мальчика. Отец сникает, как тающий снеговик.
— Гаденыш, говорю я тебе, вот так и будешь читать, читать и никогда отсюда не выйдешь. Сидишь себе тут и с-с-сидишь, как вор… вор-робей на ж-жердочке, понятно я говорю? Шею вытянешь, ноги вытянешь, захочешь взлететь, ан нет, прилип, понимаешь, прилип, как муха.
Последние слова отца тонут в слезах. Грозовые облака сменились редким дождичком. И под этим дождем, как беззащитная зверушка, сидит Лопе. Он не знает, как ему быть, то ли смеяться, то ли плакать вместе с отцом.
Читать дальше