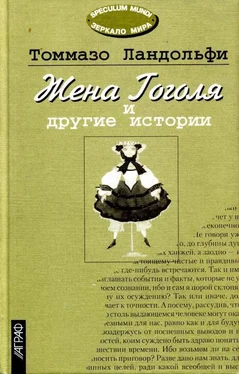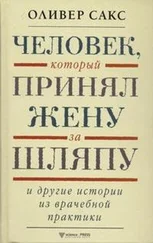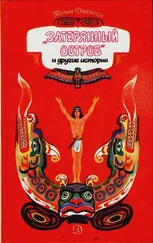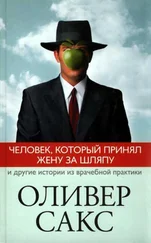Нет, Ландольфи с самого начала складывается отнюдь не как писатель-сюрреалист — при всем безумии его сюжетов. Смысл его художественного мира — реакция на ту духовную опустошенность, которая порождает тотальное самообольщение и порождается им. Это настоящая драма духа, потому что обольщение начинается из глубины личности. Из пустоты. Из бездны. Из ничто . Из того, что не определишь и не ухватишь.
Перед нами — портрет отколотого сознания, нашедшего себя в обречении и обреченного сопротивляться.
Когда фашизм капитулировал, Ландольфи не было и сорока. Впереди открывалась — жизнь. «Диалог о главнейших системах» вроде бы завершился, «Тараканье море» казалось перейденным, «Меч» на глазах сокрушил зло. Четыре книги было написано, всемеро больше предстояло написать; впереди простиралось тридцать три года — тридцать три года работы под «неизъяснимой синевой» мирного итальянского неба с ощущением ледяного вопроса в душе. Как жить, если в основе и в исходе — ничто?
В 1947 году выходит «Осенняя история» — вещь во многом поворотная и полная предчувствий. Полная отрицаний.
Ландольфи отрицает фашизм, отрицает все, что связано с фашистской реальностью, отрицает войну, порожденную фашизмом и породившую фашизм. Он не хочет знать правоты сторон: «два грозных чужеземных войска сошлись тогда на наших землях», — где там немцы, где американцы? — нет разницы, и те, и другие — зачарованные, плененные, заклейменные проклятьем души.
В невесомости люди враждуют — в невесомости ищут себе спасения и убежища. Мир рассечен мечом Господа: расколота земля, распались горы, расступились ущелья, в их складках прячется призрачная жизнь. Можно уловить следы романтической стилистики в том, как таинственно, многозначительно и грозно описана небольшая усадебка, уцелевшая меж скал на крохотной ровной площадке, — но чем подробнее, детальнее и грандиознее описывает Ландольфи хитросплетение ходов и подземелий, коридоров и комнат, чем явственнее это скромное жилище вырастает в полный тайн Замок, тем мучительнее вы ощущаете, что перед вами — призрак или, если выражаться в стиле «современных систем», антижизнь.
Антимир соткан из элементов мира: из чувств любви, отцовства и материнства, привязанности к дому, из молитв, наконец, возносимых неведомому Богу, который все это перемешал, лишил формы, то есть одарил формой, скрывающей отсутствие смысла. Сам Вседержитель у Ландольфи — дух Света, ослепляющий и безжалостный. Другой скрепы нет. Составные части этого небытия-бытия, разумеется, могут быть истолкованы в духе земной логики, могут — и в духе психоанализа (соотношение материнского и дочернего начал, «мешающих» друг другу, и т. д.), это задача для итальянских биографов Ландольфи, а мы сквозь кисею перевода чувствуем драматизм сознания, которое обречено, ибо лишено всяких оснований к сопротивлению... а все-таки сопротивляется, несмотря ни на что... непонятно чем... не спрашивая зачем.
В итальянском оригинале это сопротивление распаду есть прежде всего сопротивление материала , оно опирается на крепость стиля, на тяжелую кладку языка, столь же неуязвимую для порчи, сколь и сама эта порча необъяснима как тема и предмет описания; она, порча, «есть, и точка». Однако и магия речи «есть, и точка». В русском переводе Г. Киселева это напряжение отчасти передано ритмом, иногда воспроизводящим удары пульса, иногда — экстаз молитвы; передать «крепость слов», возведенных на руинах бытия в итальянском оригинале, наверное, невозможно, но и в русском тексте воссоздан ход драмы: погружение небытия в бытие.
Странно ощущать эту драму опустошения, развернутую в декорациях конца войны. Странно — потому что господствующее настроение массы людей в тот исторический момент — радость освобождения. Итальянская культура середины 40-х годов оставила на этот счет более чем ясные свидетельства; даже у несентиментального Бернардо Бертолуччи много лет спустя, в финале фильма «Двадцатый век», передано тогдашнее солнечное ощущение наступившего мира
Ландольфи грустен. Как сказал о нем один критик, он начинает там, где большинство заканчивает. Он, кажется, чужд тех простых радостей, что испытывали люди, дожившие до падения Режима. Он далек от мироощущения неореалистов, на «двух грошах надежды» взращивавших в послевоенной Италии солнечно-реальный мир. Ничего весеннего нет в «Осенней истории» Ландольфи. Это повесть не о возрождении жизни — она о невозродимости, о невосстановимости, непоправимости. Она о том, что падает в тень, за пределы точки, в которой личность признает свое «отсутствие».
Читать дальше