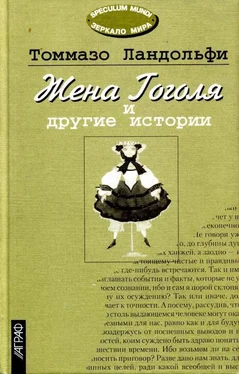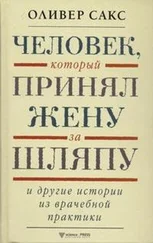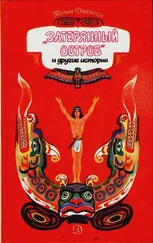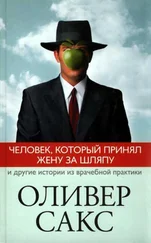Был у Эрнесто приятель, литературный критик, в силу своей профессии человек исключительно мрачный. К нему-то первому и обратился наш поэт. Из-за природной безголосицы или же для придания большего веса собственным словам приятель говорил настолько тихим и глухим голосом, что было трудно его понимать; разглагольствуя, он сплетал на столе руки, вдохновляясь видом указательного пальца правой руки, который либо топорщил на манер мужского члена, либо рассеянно, без очевидной связи с содержанием разговора, крутил, как цветок; еще была у него привычка перемежать высказывания долгими неподвижно-отсутствующими взглядами в пустоту (что придавало ему сходство с насытившимся животным) или на собеседника, точно он ждал от него помощи, молил сжалиться над ним, незадачливым критиком и человеком (он был из тех, кто размахивает развевающимся на ветру знаменем человечности и идет под ним, горланя заунывные припевки). При всех этих замечательных особенностях — бесспорных признаках глубокого ума — он, тем не менее, выслушав Эрнесто, вынужден был открыто признать свою некомпетентность, правда, после ряда небесполезных уточнений, каковые мы попытаемся, насколько это в наших силах, доходчиво передать.
— Так-так, — сказал он. — Для начала неплохо бы провести грань между полкой для пороха и книжной полкой, — (критик явно кого-то цитировал — возможно, Белли), — иначе говоря, между тем, что касается тебя лично, и тем, что относится к другому. Первый вопрос: не смущает ли тебя метод, использованный тобою при сочинении стихотворения, когда, доверяя выбор слов жребию, ты как бы заранее ставил себя в невыгодное положение по сравнению со своим предшественником?
— Ну, положа руку на сердце, конечно...
— Вот и напрасно! Видишь ли, каждый вправе создавать стихи, картину или музыку, как ему заблагорассудится — любым способом. Один художник, к примеру, писал пейзажи, созерцая натуру сквозь бутылочное стекло, другой срисовывал этикетки со старых спичечных коробков или, во всяком случае, черпал в них вдохновение, и это, бесспорно, было их личное дело. Если говорить только о выборе лексики, не касаясь твоей работы по пригонке словесного материала, кто знает, не создавал ли и Лермонтов свои стихи из слов-жребиев? Важен результат...
— Так о результате и речь... — попробовал возразить Эрнесто.
— Перейдем лучше ко второй полке, — продолжал критик, не обращая внимания на попытку перебить его монолог, — тем более что по поводу первой мне, признаться, нечего добавить. Итак, если я верно понял, тебя в данный момент беспокоит не столько проблема в целом, сколько ничтожный и весьма относительный фактор признания. Не обижайся, но я сразу затрону больное место: значит, ты утверждаешь, будто сочинил свое стихотворение, пребывая в неведении... не отдавая себе отчета в том, что на самом деле сочиняешь стихотворение Михаила Лермонтова, и за все время ни разу не подумав об этом господине, точно у тебя, так сказать, память отшибло?
— Вот именно.
— Допустим, но кто этому поверит? Больше того, даже если бы тебе удалось доказать, что ты никогда в жизни не читал «Выхожу один я на дорогу...» и не слышал о таком стихотворении, ты бы ничего не изменил, ибо эти строки, как говорится, носятся в воздухе, они — неосознанное достояние каждого из нас.
— Что же получается?
— Ничего. Во всяком случае, на этом пути тебе не удастся востребовать свою славу — заслуженную, разумеется. Тогда на каком же? Увы, не скажу по той веской причине, что не знаю, да и не могу знать истинного положения вещей, не улавливаю связи между первым сочинением и вторым, не понимаю самого механизма случившегося и насколько оно закономерно: все это не по моей части. Нужно смотреть правде в глаза, мой бедный друг, avant tout et toujours [53] Прежде всего и неизменно ( франц. ).
смотреть правде в глаза! Ты обратился не по адресу... Вот что я тебе скажу: если кто-нибудь и в состоянии просветить тебя, разрешить твои сомнения, так это, по-моему, любящая женщина, либо астроном, сиречь математик, либо та и другой вкупе (хе-хе, извини за старомодный слог). Но женщина есть женщина, и я бы с нее не начинал.
После этого доброго совета (кстати, не столь уж странного, как может представиться) критик вернулся к работе над очередным головоломным текстом.
Математик неожиданно оказался этаким развеселым бодрячком с животиком и дурацкой улыбкой во весь рот, полный зубов (кариозных). Над его рабочим столом висела не какая-то абстрактная картина, а идиллическая сцена из жизни девятнадцатого века, и вообще было непонятно, как ему удается справляться с алгоритмом, когда от одного этого названия — брр! — бросает в холод. Впрочем, дело свое он знал, недаром университетский профессор. Так что он нисколько не удивился, сразу понял, о чем идет речь, и начал следующим образом:
Читать дальше