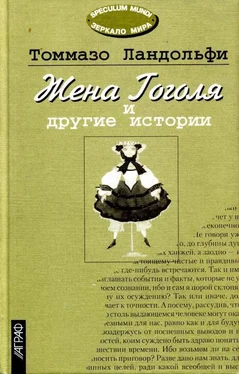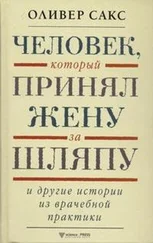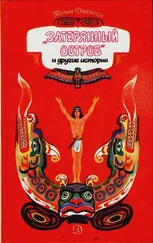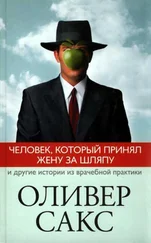Разорвалась она внезапно и как-то вся разом: в том смысле, что не было какого-то одного участка кожи, который бы не выдержал — лопнула вся кожа одновременно. И разлетелась во все стороны. Постепенно лоскутки опали, одни раньше, другие позже — в зависимости от величины. Хотя все кусочки были крошечными. Отчетливо помню клочок щеки с уголком рта, повисший на каминной полке; а в другом месте — ошметок груди с соском.
Николай Васильевич потерянно взглянул на меня. Потом встряхнулся и, поддавшись новому приступу ярости, принялся старательно собирать жалкие обрывки, которые еще недавно были шелковистой кожей Каракас, были ею самой. Мне послышалось, что он шепчет: «Прощай, Каракас! Прощай, как мне было жаль тебя...» И тут же громко добавил: «В огонь! И ее в огонь!» И перекрестился — разумеется, левой рукой. Собрав все дряблые, сморщенные лоскутки — он забирался даже на шкапы и комоды, дабы ни одного не оставить, — Гоголь швырнул их в пылающий камин. Они нехотя загорелись, распространяя по комнате преотвратный запах. Как всякий русский, Николай Васильевич до страсти любил бросать в огонь ценные вещи.
С выражением беспредельного отчаянья и вместе мрачного торжества на багровом лице, судорожно вцепившись в мой локоть, Гоголь не сводил глаз с пожиравшего свою добычу пламени. Едва обрывки кожи начали исчезать в огне, Гоголь вновь встрепенулся, будто вспомнил о чем-то или решился на важный шаг. Он опрометью метнулся вон из комнаты; через минуту за дверью послышался его резкий, срывающийся голос: «Фома Паскалыч, обещай, голубчик, что не будешь сейчас смотреть!» Уж не припомню, что я такое ему ответил, может, попытался успокоить. Только он все не унимался. Пришлось пообещать ему, как ребенку, что встану лицом к стене и не обернусь без его дозволения. Тогда дверь со стуком распахнулась, Николай Васильевич стремглав ворвался в комнату и просеменил к камину.
Тут я должен покаяться в своей слабости. Ведь она вполне понятна ввиду необычайных обстоятельств. Короче говоря, я обернулся прежде, нежели получил разрешение Николая Васильевича, но поделать с собой уже ничего не мог. Я успел заметить, что Гоголь держал двумя руками предмет, который и швырнул в ярко пылавший огонь. Страстное желание увидеть , что это было, победило во мне все прочие порывы, и я ринулся к камину. Но Николай Васильевич загородил мне дорогу и толкнул меня в грудь с силою, кою я в нем никак не подозревал.
Загадочный предмет горел, извергая много дыму. Когда огонь унялся, от него осталась безликая горстка пепла.
Собственно говоря, увидеть его своими глазами я хотел потому, что уже успел кое-что разглядеть . Кое-что, но не более того. Воздержусь от уточнений, дабы не отягощать сей правдивый рассказ деталями сомнительной надежности. Однако не может свидетельство считаться исчерпывающим, ежели очевидец не сообщит всего, что ему известно, пусть и не из верных источников. Так вот: предмет, о коем шла речь, был ребенок. Натурально, не настоящий ребенок из плоти и крови, а что-то вроде резинового голыша — толстый, нескладный кукленок. По всему, это был сын Каракас . Ужели и меня обуяло в тот момент бредовое наваждение? Не стану что-либо утверждать наверное. Передаю лишь то, что видел собственными глазами, хотя и не очень отчетливо. Я не сказал еще, вполне понятно из каких побуждений, что Гоголь, вернувшись в комнату, повторял вполголоса: «И его туда же? И его?!»
Вот и все, что мне ведомо о жене Николая Васильевича. Что сталось впоследствии с ним самим, я расскажу в следующей главе, последней главе о его жизни. Подвергать разбору отношения Гоголя с женой, равно как и прочие его переживания — задача не из простых и притом совершенно иного толка. Однако ж в другом разделе настоящего труда была предпринята такая попытка. К этому разделу я и отсылаю читателя. Смею надеяться, что в достаточной степени прояснил сей каверзный вопрос и приподнял завесу над тайной если не самого Гоголя, то по крайности его загадочной супруги. Тем и развеял необоснованные обвинения, будто бы Гоголь дурно обращался со своею спутницей и даже бивал ее. Решительно отметаю и прочие подобные нелепости. Да и какая другая задача может стоять перед смиренным биографом, коим я себя считаю, как не воздать должное памяти великого мужа, ставшего предметом моего исследования?
Перевод А. Велесик
Теперь, когда вновь в моде воровские мемуары, я не вижу, почему бы и мне не рассказать об одном курьезном эпизоде из моей долгой и, слава Богу, счастливой карьеры. По правде говоря, в этой карьере он особой роли не сыграл — очень уж скудной была добыча, но, если, конечно, я не обольщаюсь, по-своему он не менее интересен, чем другие. Итак, к делу.
Читать дальше