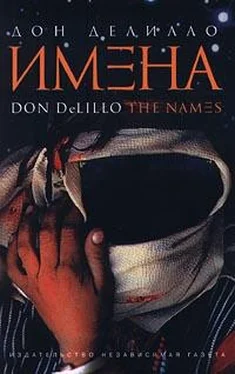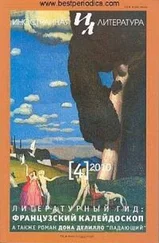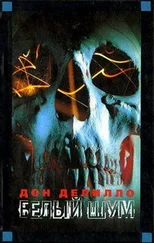По-английски он не знал ни слова. Мой греческий был так скуден и ненадежен, что я, будь у меня такая возможность, старался бы избегать встреч с этим человеком. Но нельзя было пройти мимо и не перекинуться с ним фразой-другой. Он мог спросить о Тэпе, сделать замечание о погоде. Понять его, правильно ответить — это было как пробираться сквозь сон. Я украдкой вглядывался в его лицо, стараясь выловить из звукового всплеска членораздельное слово, отыскать какой-нибудь намек на то, о чем идет речь.
Жарко.
Жарко.
Очень жарко.
Если я возвращался из магазина с прозрачной пластиковой сумкой, он выглядывал из своего закутка за столом и называл купленные мной продукты. Иногда я невольно повторял эти слова вслед за ним, а иногда, если сам знал их, даже опережал его. Проходя мимо, я чуть приподнимал сумку, чтобы ему было удобнее смотреть. Хлеб, молоко, картошка, масло. Я не мог вести себя иначе. У него было преимущество передо мной — язык, и чаще всего, встречаясь с ним, я испытывал детский страх и чувство вины.
Кроме ограниченного словарного запаса, у меня были серьезные трудности с произношением. Особенно нелегко давались мне названия мест. Если я появлялся из лифта с саквояжем, Нико обязательно спрашивал, куда я еду. Иногда он сопровождал свой вопрос коротким взмахом кисти. Простая вещь — пункт назначения, но я часто становился в тупик: или забывал греческое слово, или не знал, как правильно его произнести. Я делал ударение не там, где надо, плохо выговаривал звук «х» и «р» после «т». Слово выходило бледным и плоским, как миннесотский город, и я ехал в аэропорт, чувствуя, что опять оказался не на высоте.
Со временем я начал лгать. Я говорил, что направляюсь в место, название которого мог выговорить без труда. Каким это казалось простым, даже изящным решением: позволить названию места определять место. Детская хитрость, конечно. Но так уж он на меня влиял. Однако потом моя ложь стала угнетать меня, вызывать какую-то метафизическую тревогу, не имеющую ничего общего с ребячеством. Я словно грешил против чего-то очень важного. Моя ложь была отнюдь не пустяковой, а очень серьезной. С чем я вздумал шутить: с человеческой верой в именование, с давным-давно сложившейся системой образов в мозгу Нико? Уезжая, я оставлял в лице консьержа гигантское расхождение между названным мною маршрутом и действительными перемещениями, которые совершал во внешнем мире, — четырехтысячемильную выдумку, бессовестный обман. Говори я на английском, а не на греческом, моя ложь была бы меньшим злом. Я чувствовал это, хоть и не знал, почему.
Возможно ли, что реальность накрепко связана с фонетикой, что ее код — звуки, все эти гортанные и зубные? Людные, чадные места, куда мы ездили по делам, редко казались нам такими же чуждыми, как имена, которыми их нарекли. В каком-то смысле отчасти благодаря этим именам мы и отличали их одно от другого, и я должен был уважать эту странную истину. А неловкость, которую я испытывал, когда возвращался и он спрашивал меня, что нового в Англии, Италии или Японии! Возмездие. Я мог накликать на себя авиакатастрофу — или землетрясение на невинный город, чье имя я произнес.
Еще я лгал, когда отправлялся в Турцию. Само название было для меня нетрудным, я выговаривал его лучше многих других, но мне не хотелось сообщать Нико, что я туда еду. Он казался человеком, неравнодушным к политике.
В ту ночь я размышлял об Энн — о городах, в которых она жила, и о соглашениях, которые ей приходилось заключать с мужем и любовниками. Я с сочувствием думал о ее романах, предваряющих разлуку, о которой она всегда знала заранее. Ее появление где-то, так же как и отъезд, зависело от работы мужа. Вечная перемена мест. Ее память была частью сознания многих глухих уголков, тьмы, которая сгущалась в Афинах. Здесь были киприоты, ливанцы, армяне, александрийцы, островные греки, северные греки, старики и старухи — потомки эпических переселенцев, их дети и внуки, греки из Смирны и Константинополя. Их настоящей родиной были просторы Востока, мечта, великая идея. Везде ощущалось давление воспоминаний. Черной памяти о гражданской войне, голодающих детях. Мы видим ее в худых небритых лицах жителей крохотных поселков, разбросанных по горам. Они сидят под почтовым ящиком на стене кафе. В их взгляде — уныние, тревога. Сколько померло у вас в поселке? Сестры, братья. Мимо проходят женщины, ведут осликов, груженных кирпичом. Порой мне казалось, что Афины — отрицание Греции, что ими буквально замощена эта кровавая память и отовсюду глядят лица, проступающие из-под камня. Разрастаясь, город поглотит окружающую его горькую историю, и под конец не останется ничего, кроме серых улиц и шестиэтажных зданий с развевающимся на крышах бельем. Потом я понял, что сам этот город — изобретение пришельцев из глухих мест, людей насильно переселенных, бежавших от войны, резни и друг от друга, голодных, ищущих работу. Они были изгнаны домой, в Афины, которые простерлись к морю и, через холмы пониже, к аттической равнине, словно в поисках направления. Память, претворенная в компас.
Читать дальше