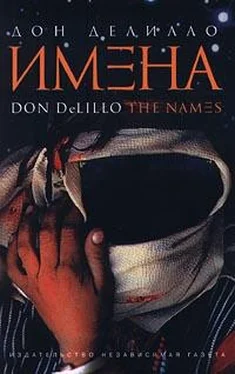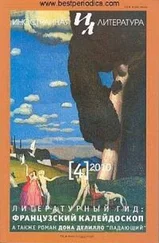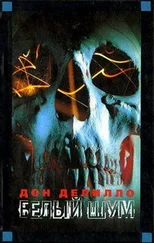Она говорила словно заранее приготовленными фразами. Усталая, без остановки льющаяся речь. Как дождь. Утомление и стресс перевозбудили ее, она испытывала почти лихорадочную жажду нанизывать предложения одно за другим — любые предложения. Носителем смысла была интонация. Конкретные слова не имели значения. Важны были только модуляции ее ироничного голоса, его музыкальный рисунок и ритм, ударения. В нашей беседе отсутствовала тема.
— Мы виделись после Найроби? Я привезла несколько чудесных ругательств. Сестра коллекционирует их для Чарлза. Живут они — это что-то. Слуга в доме, садовник, конюх, ночной сторож, дневной сторож. А масла нет, молока тоже.
Она избегала моего взгляда.
— Теннанты приехали, вы в курсе? На этой неделе надо будет поужинать всей компанией. Им здесь не шибко нравится. Хотят обратно в Тегеран. Опасность их не смущает.
Она познакомилась с Теннантами в Бейруте. Раньше они жили в Нью-Йорке. По словам Теннантов, за четыре года жизни в Иране их никто ни разу не побеспокоил. Не нагрубил, не оскорбил. Им не угрожали, не пытались ограбить. Они гуляли где хотели, говорили Теннанты, своим тоном как бы давая понять, что не видят в этом ничего особенно удивительного. Обычно так говорили люди, желающие отдать должное Нью-Йорку.
Мы гуляли где хотели.
— Мне их жаль, — сказала она. — Они только-только начали осваиваться. В некоторых местах на это уходит больше времени, чем в других. То есть, конечно, если там не стреляют. Если стреляют, ты просто выполняешь свою работу, втянув голову в плечи. Тебе не надо осваиваться, вживаться в местный ритм. Все это делают за тебя, да так, что не поспоришь. Решают, куда ты можешь пойти и когда.
В Бейруте, чтобы отправить письмо, ей приходилось идти до самого аэропорта. Иногда его опускали в ящик, иногда возвращали. В конце концов, потому они и уехали. Не из-за гепатита, не из-за разыгравшейся севернее эпидемии холеры, даже не из-за привычной стрельбы. А из-за полной неопределенности во всем. Сплошь капризы, причуды. Сегодня одно, завтра — непременно другое. Шальные события. Жизнь определялась людьми, чье поведение было прихотливым, как погода. Часто эти люди сами не знали, как поступят в следующий момент, и она жила в постоянном напряжении. Она смотрела человеку в глаза, но не видела его мыслей. А как еще ориентироваться, если не по глазам мужчин? Женщины непрерывно мыли полы. Видимо, это было их основным занятием в трудные времена. Они продолжали мыть полы, даже когда бои разгорались с особенной силой. Полы давно уже были чистые, но их все равно не переставали мыть. Спокойными, равномерными движениями. Она поняла, что неизменные вещи могут иметь гораздо большее значение, чем мы привыкли думать.
— Не смотрите на меня, — снова повторила она.
— Да вы не так страшно выглядите.
— Бросьте. Скоро я стану бабушкой.
— Питер женат?
— Вряд ли. Обычно он боится делать решительные шаги. Мне бы его осторожность. А то вечно кидаюсь во все очертя голову. Такая у меня болезнь.
— Может, нам с вами поговорить?
— Я думала, разговоры бывают только мужские. Ну знаете: друзья за кружечкой пива, эдакое похлопывание по спине. Утро вечера мудренее, ну и так далее.
— Чарлз разговаривать не любит.
— Это да. Ему бы поспать.
— Чарли не в своей тарелке.
— Просто я ему изменила, — сказала она. — Впрочем, не в первый раз.
— Не знаю, что тут сказать.
— А ничего. Помиримся. Мирились же раньше. Этот процесс требует времени. Надо пройти несколько стадий, одну задругой. Беда в том, что, в отличие от него, я так и не сумела как следует овладеть ритуалом. Вечно промахиваюсь. И усложняю дело для всех окружающих. Бедный Джеймс. Вы уж меня извините.
Теперь ее голос зазвучал по-прежнему — задумчиво и уравновешенно, сообразуясь с каким-то внутренним центром. Она подалась вперед и тронула меня за руку. Мир здесь, подумал я.
Сначала я решил, что наш консьерж лет на десять-пятнадцать старше меня. Маленькую девочку, которая жалась к его ноге, я принял за внучку. Лишь позднее мне стало ясно, что для объективного сравнения надо внести в наш возраст поправки: ему скинуть, мне добавить. В большинстве греки-мужчины к сорока полностью определяются, как бы врастают в окружающий мир; время и обычай наделяют их фиксированным набором обязанностей, неизменным лицом, походкой, манерой разговора и поведения. Сам я до сих пор ждал, что жизнь меня удивит. Я то уходил, то приходил — он же был здесь, на тротуаре перед дверьми или за своим столом в полутемном вестибюле, что-то записывал, пил кофе.
Читать дальше