— Ну? Получили удовольствие от прогулки?
Руки сложены на груди, чуть ниже, чтобы осанка казалась мягче. Марсия сказала, что мы ездили посмотреть на реку, и дона Фелисидаде ответила:
— A-а, на реку. Должно быть красиво.
И повела меня внутрь, а Марсии очень вежливо открыла дверь лифта. Но я ведь хотел увидеть Фермино, пойду обедать, за обедом и увижу. Длинный коридор я теперь прохожу быстрее, когда меня собираются мыть. Но Антонии нет, похоже ушла из приюта, и теперь ее работу выполняют молодые девицы. По одну и другую сторону коридора жилые комнаты, гигиенические, зал для восьмидесятилетних. А в глубине большой зал для приходящих есть и спать здесь. В зале они играют в домино. Иногда я захожу сюда. Группки людей играют в просторном зале в домино. Я смотрю на их игру, они играют, не замечая времени. Пойду-ка к Фермино. Думаю, что я уже тебе говорил, дорогая, что мы движимы внутренним побуждением, оно приходит неизвестно откуда и подвигает нас на что-то, и мы хорошо себя чувствуем, как человек, закрывший глаза в поезде. Я беру костыли и иду по коридору. У стены коридора стоит стул с ворохом черной одежды. Я трогаю его рукой, как это однажды при мне сделала Антония, и из вороха одежды показывается голова старухи, которая тут же принимается бормотать: аве, аве… Потом голова снова исчезает в тряпках. Старухе больше ста лет, сознает ли она, кто она и что живет в этом доме? Здесь, в этом доме, она не больше, чем мебель. Однажды я видел ее праправнука, полного генетического любопытства, он отдал деньги и исчез. Старуху никак не переведут в богадельню или не знаю куда, а все потому, что дона Фелисидаде и весь персонал приюта самого разного возраста твердо верит, что она умрет со дня на день. А сама старуха другого мнения. Но, думаю, что ее продолжают здесь держать еще и потому, что ее присутствие вселяет в каждого из нас надежду, что в приюте можно сохранить жизнь вопреки демографическим прогнозам, и она живет. Больше всего мне нравится видеть, дорогая Моника, отделение для самых старых. Они такие милые. Когда бы я ни посмотрел на них, они всегда едят. И смеются. Это беспричинная радость, радость чертополоха, камней… У них живые глазки, румяные щечки, смеются. И слюнявятся. Прислуга подвязывает им слюнявчики, точно для бритья, они смотрят наивным взглядом и принимаются есть, слюнки текут и они пачкают и салфетку и одежду. Такие милые. Иногда они забывают, что едят, тогда служанка кормит их с ложечки, а они играют тем, что есть под рукой, взгляд рассеян, как у ребенка. Или засыпают, голова падает на грудь, служанка будит их, чтобы докормить. Ну такие беспомощные! Они старые, Моника, они ровесники мира. У них возраст земли, мечтаний, военных прожектов, окончательных завоеваний за пределами истории, больших систем, сориентированных на организацию планет. Они старые, дорогая, слюнявятся и смеются, полные голубой и зеленой радости, служанка кормит их с ложечки.
Но когда я прихожу в отделение «А», как ни странно, никого нет, большой зал пуст, уж не забастовка ли? как это говорят в армии? Снялись с лагеря? Сейчас обед, здесь должны бы быть и приходящие обедать и спать. Столы накрыты, но в зале ни души. И вдруг за одним из столов, что с правой стороны у двери, я вижу… кто это? женщина лет шестидесяти. Я спрашиваю ее: могу ли я сесть, она отвечает, что в зале свободных мест много. Но я говорю, что привык, когда прихожу, садиться именно за этот стол. Тогда как хотите, отвечает она. А я ей еще говорю:
— Это — стол Фермино, я вспомнил, что он собирался прийти сегодня.
И тут она начинает говорить о себе. Здесь все так, Моника, извини, дорогая. Десять минут с незнакомым человеком, ничего не скрывая. С тобой подобное бывало столько раз, и я приходил в ужас, но тут пришел мужчина, и я объяснил ему, что хочу видеть Фермино.
— Он умер вчера, — ответил тот, усаживаясь.
Всё, не скрывая — почему? Это, должно быть, одна из возможностей привлечь внимание, подчеркнуть свою значимость, включить вас в общество, в котором вам было отказано в течение тысячелетий. А может, отсутствие врожденного стыда? мужчина бесконечно скрытнее, потому что никогда не нуждался во внимании — а женщина все говорит и говорит. А я ведь хотел узнать подробнее о смерти Фермино. Женщина была занята собой. На седьмом десятке стыд был ей уже не ведом. Мощная, с большой грудью, она рассказывала о своем вдовстве. Ее муж был подрядчиком, двое детей эмигрировали, один оставил жену, которая лентяйка. Дети моей дочери — мои внуки. А вот сына… это бабушка на двое сказала. Вот так.
Читать дальше
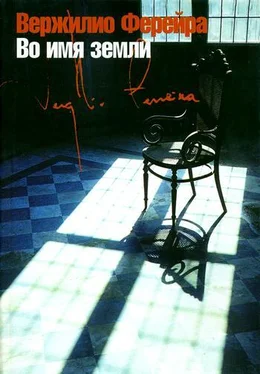
![Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]](/books/33192/verzhilio-ferejra-izbrannoe-yavlenie-kratkaya-rados-thumb.webp)








