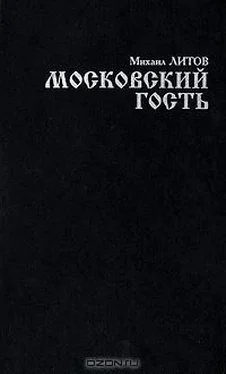Антон Петрович внимательно слушал и спрашивал себя, было ли так, как говорит возлюбленная, но ответа не находил. Как будто было, раз она говорит, но уверенности на этот счет он не имел. Кики Морова с улыбкой следила за его впечатлениями.
— Ты потому и принял условия Пети Чура, на которых он соглашался расколдовать тебя, что тебе вменялась обязанность служить нам. Ты тут же хитро прикинул: ага, им, как же! я буду служить ей, Кики Моровой! ей одной! И ты ради этой перспективы задушил в себе гордость, волю, все свои прежние политические воззрения…
— Неправда! — с неожиданной горячностью запротестовал Антон Петрович. — Это было не совсем так… я боролся, спроси у Пети, я далеко не сразу принял его условия, мне трудно было расстаться… да, именно так… трудно было расстаться с моими политическими воззрениями. Я до сих пор не вполне с ними расстался… то есть в той мере, в какой это не противоречит нашему с Петей договору… Я честно исполняю все пункты.
Кики Морова, глядя ему прямо в глаза, провела пальцами по носу, и он пропал, а вместо него торчала теперь между ее щеками какая-то сморщенная, длинная и острая морковка.
— Любимая, — сказал Антон Петрович тихо и взволнованно, — ты можешь лишаться кожи, отстегивать и выбрасывать конечности, но я… я…
— Почему ты замолчал?
Антон Петрович развел руками, показывая, что не в состоянии закончить свою мысль.
— А когда же ты меня полюбил? — спросила девица с усмешкой.
— Не знаю, — отрезал Антон Петрович.
— Твоя воля сломлена. Мы, — сказала Кики Морова с ударением, — мы сломили твою волю, но ты выбрал именно меня героиней своих кошмаров и сумасшедших грез.
— Это и есть кошмар! Это сумасшедший разговор! Зачем ты так говоришь? Может быть, мое чувство гораздо чище, чем тебе представляется!
Кики Морова нетерпеливым жестом велела ему умолкнуть.
Антон Петрович ждал, какой фокус она еще проделает, чтобы напугать его, а она сидела перед ним словно в некой нише, где было темнее, чем вообще в комнате, и он понимал, конечно, что она отнюдь не шутит и вовсе не пугает его. Но ему немного легче было, когда он думал о происходящем на его глазах ужасном разложении прекрасного существа, молодого красивого тела, как о чем-то нарочитом и анекдотическом.
Он не сомневался, что, сделав шаг к ней, он в то же мгновение потеряет ее и не то чтобы провалится сквозь землю в знак какого-то символического, художественного наказания за свое непомерное любопытство и влечение к запретному, а полетит в истинную безграничность, в бездну, неведомую и самой изощренной фантазии. И его притягивала эта бездна, он был готов сделать шаг. Насупившийся, в раздражительном нетерпении сжавший кулаки артист осознал, насколько его любовь и он сам смешны в глазах Кики Моровой и вместе с тем до чего же не смешным, а напротив, увлекательным и даже величественным был бы его полет в неизъяснимую пустоту. Так Кики Морова манит его, ее ли он любит или свое возможное проникновение в неведомое?
— Человек мал и ничтожен, — вела свою бесовскую проповедь девушка. — Его мысли скудны, а возможности ограничены. И ты такой же, как все люди.
— Нет, неправда! Человек не мал. Человек способен рискнуть многим, рискнуть головой, всем, самой жизнью… ради шага в неведомое!
— Когда мужчина отказывается от всех своих воззрений, идеалов и, главное, от своего мужского достоинства, когда он, полагая, что любит женщину, призывает ее поскорее выступить безжалостной мучительницей, палачкой, не ведающей сострадания, это означает одно: в той женщине воплощается его больная совесть.
— Совесть? — оторопел бедный артист. — Но как это может быть? Для чего нужно мужчине, чтобы женщина была его палачкой? Почему не просто любить ее?
— Да, совесть, — подтвердила Кики Морова, и в это мгновение ее волосы поднялись вверх как потревоженный ветром пук соломы, добрая их половина улетучилась, а те, что улеглись на прежнее место, представляли собой уже только условное изображение прически и какой-то бессмысленно-игривой всклокоченности. — Совесть! И это выше разумения описанного нами мужчины, но как бы то ни было, он любит в предполагаемой женщине своего судью и палача…
— Но послушай, послушай, — перебил Антон Петрович, — ты говоришь странные вещи, смеешься надо мной… Или угрожаешь. Что мне грозит? Я ведь не боюсь… Какая же это совесть? И как она может воплотиться в тебе, в ком-то из вас… после всего, что вы сделали с нашим городом? Разве это возможно? Даже если и есть какая-то правда в твоих словах, все равно, все равно они ничего не объясняют, не говорят всего… Нет в них, знаешь ли, доброго, нужного сердцу… Совесть… Совесть нужна, куда нам без нее! Но такой, как описываешь ты, совесть не бывает.
Читать дальше