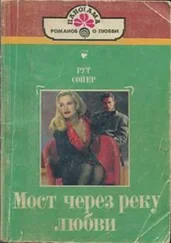Комендантша общития, единственная из нас, говорившая по-немецки, всякий раз после вечера танцев с английскими солдатами приводила к себе в комнату очередного мужчину. Причем всякий раз приглашала и какую-нибудь из наших девчонок, чтобы потом в случае чего сказать, что это был не ее любовник, а наоборот, хахаль девчонки. Вскоре после этого она, впрочем, вылетела из заводского общития, однако вовсе не за то, что водила к себе мужиков. Женщины в общитии получали с родины посылки с турецкой копченой колбасой. Когда почтальон привозил эти посылки, женщины были на заводе, комендантша расписывалась в получении, прятала посылки у себя под кроватью, а нам показывала квитанции немецкой почты и «переводила»:
— Турецкая колбаса ядовитая, отравленная. Немецкая почта твою колбасу конфисковала.
Но однажды наши женщины обнаружили свои колбасы у нее под кроватью, пошли вместе с ними к директору радиолампового завода, и комендантшу сразу уволили.
После чего дирекция радиолампового завода прислала нам турецкую супружескую чету. Муж стал работать в общитии комендантом, а жена была при нас на заводе переводчицей.
Новый комендант общития сообщил, что он художник и коммунист. Никто из нас не знал, что это такое — «коммунист». По вечерам он обучал нас, женщин, немецкому языку. Все женщины собирались теперь в холле на нашем этаже общития, а это значит, придя с работы, мы уже не напяливали на себя ночные рубахи, не включали телевизор, где бесконечно шло фигурное катание, а учили теперь немецкий язык с нашим комендантом-коммунистом. Он сидел перед нами, женщинами, со своим турецким музыкальным инструментом под названием «саз» и по-немецки пел нам турецкие песни, которые все мы знали на родном языке: «Передайте привет моему батюшке и скажите, пусть заплатит за меня тысячу лир и выкупит меня из тюрьмы». Все женщины повторяли за ним слова. Он улыбался и подергивал себя за ус. На улице перед Театром Хеббеля зрители неспешно заходили в фойе, а мы сидели в общитии и повторяли немецкие слова: «…пусть заплатит за меня тысячу лир и выкупит меня из тюрьмы».
Когда женщины, повторяя слова, не всё могли вспомнить, они говорили:
— Вон та девушка, в брюках, пусть повторит, мы забыли.
И я повторяла за комендантом слова. Тогда комендант-коммунист меня спросил:
— Ты что, уже играла на сцене?
— Да, шесть лет.
— То-то оно и видно. Кого ты играла?
— Титаник) из «Сна в летнюю ночь». — И я процитировала:
Ich bitte dich, du holder Sterblicher,
Sing noch einmal! Mein Ohr ist ganz verliebt… [7] Прошу тебя, о благородный смертный,/Еще раз спой! Обворожен мой слух… (нем.)
Он тут же отозвался:
— Я дух совсем не общего разбора, и вечно лето на моих просторах…
— Так назовись, скиталец одинокий…
— Вазиф, — ответил он, дергая себя за ус.
Комендант-коммунист объявил нам, что предоставит кузинам-лесбиянкам отдельную двухместную комнату, чтобы им никто не мешал — пусть себе любят друг друга. Вот так и вышло, что кузины от нас съехали. На прощанье они всех нас расцеловали, словно невесть в какой дальний путь отправляются, одна даже плакала; Резан взяла у нее вещи, а я проводила бедняжку до двери ее новой комнаты. Теперь в нашей шестиместной комнате две их койки пустовали. Сестры, что носили голубые халаты из электрической материи, с тех пор, как кузины стали любить друг дружку в пододеяльнике, переодевались в закутке за своей двухъярусной койкой. И только надев халаты, выходили из закутка, садились рядышком на нижнюю койку, дружно надевали туфли, выключали свет и выходили из комнаты. Мы снова включали свет. И хотя кузины-лесбиянки от нас съехали, сестры продолжали переодеваться за койками и всем рассказывали, что кузины — из масонов. Я понятия не имела, кто такие масоны. А еще сестры опять заговорили о своих братьях:
— Хорошо, что наши братья этого не знают.
Они и нам с Резан говорили:
— Хорошо, что ваши отцы не знают, что вы спали с лесбиянками в одной комнате.
Но у Резан отец давно умер. А они без конца говорили о своих братьях и наших отцах, и мне стало казаться, что из их слов соткалась паутина, заполнив собой всю комнату и облепив наши тела. Мало — помалу я начала бояться их братьев и своего отца. Я даже мертвого отца Резан стала бояться. И всякий раз, когда я начинала вот так бояться, я писала маме письмо с такими словами: «Да защитит меня бог и с божьей помощью мой отец — клянусь, я не делаю здесь ничего дурного».
Сестры купили для своих братьев костюмы и стиральный порошок и сложили все это на пустующих койках кузин-лесбиянок. Мужские костюмы лежали на койках, и ночью, когда на Театре Хеббеля зажигались и гасли рекламные огни, я теперь видела в этих вспышках не только поблескивающие бигуди сестер, но и поблескивающие пуговицы мужских костюмов, распластавшихся на койках, точно покойники.
Читать дальше