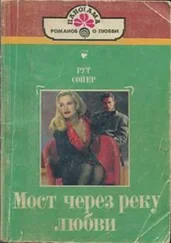И больше мы в объединение турецких рабочих не ходили.
Но вечерами из окон нашего женского общития я на освещенные окна объединения нет-нет да и поглядывала. Дверь там открывалась, впускала нового гостя, выпускала очередной клуб табачного дыма, потом закрывалась. И так каждый раз: новый человек войдет — из двери клуб дыма вывалится. Я, стоя у окна общития, тоже курила и пускала дым в сторону этих клубов. Мы, трое девчонок, опять повадились ходить ночами на наш несчастный вокзал. Выгуливали свои бриллианты, около телефонной будки стараясь топать погромче, чтобы наши родители в Стамбуле нас услышали. Расхаживали взад-вперед по всему пустырю бывшего вокзала, а затылком как будто дыхание наших отцов чувствовали. И даже Резан, у которой отца уже не было, все равно отцовское дыхание затылком чувствовала. Мы там ревели все трое, как ослицы, — ослы ведь всем телом кричать умеют, — и причитали: «Мамочка! Мама!» На секунду замолкали, смотрели друг дружке в глаза и принимались реветь пуще прежнего. На ходу мы иной раз спотыкались о рельсы на старых, заросших травой вокзальных путях. И никто, кроме этого разбитого, несчастного вокзала, не слышал нашего плача. Иной раз мы останавливались и смотрели через арки на улицу, как будто пережидали дождь. В окнах нашего общития еще горел свет, и мы шли на этот свет, а на освещенные окна рабочего объединения старались не глядеть.
Так мы и бродили по берлинским улицам, затылком ощущая за спиной дыхание наших отцов; я даже оглядывалась то и дело, проверить, не идет ли и вправду мой отец за мною следом. Останавливаясь в темноте перед освещенным домом, мы слышали звяканье тарелок, ножей и вилок — люди ужинали. Мы слушали эти звуки, затаив дыхание, а они становились все громче, и каждый врезался мне в тело, словно нож.
Стоя на кухне перед своими кастрюльками, мы, трое девчонок, в клубах картофельного пара, выглядели среди других женщин тремя птенцами, только-только вылупившимися из своих скорлупок.
А еще мы ходили в зоопарк смотреть на обезьян. У каждой из нас была своя любимая обезьяна — у Резан своя, у Поль своя и у меня, это было обезьянье семейство. Обезьяны беззастенчиво чесались, выискивали друг у дружки блох и смеялись, не боясь, что кто-то увидит, какие у них большие зубы и влажные розовые десны. Чтобы испытать их любовь к нам, мы иной раз быстро-быстро перебегали к другому концу клетки. Они дружно поворачивали головы и смотрели на нас вопросительно.
На заводе, с лупой в правом глазу, я теперь нередко засовывала язык под верхнюю губу, чтобы походить на свою любимую обезьяну Контрольные часы назывались у нас теперь обезьяньими часами, выходные дни — обезьянниками. После работы мы шли сперва в зоопарк и только после, уже затемно, к нашему несчастному вокзалу.
А потом в общитии появилась новая девчонка, по кличке Ангел. Ангел была очень маленькая, когда она стала с нами ходить, мы впервые заметили выбоины на берлинских мостовых и тротуарах, потому что все время должны были теперь смотреть на Ангела сверху вниз. Там, под ногами, обнаружилось множество окурков, которые так забавно было футболить. У Ангела был на редкость мягкий, теплый голос, и говорила она очень медленно. Подлаживаясь к ней, медленнее говорили и мы. Мне стало казаться, что я, как при замедленной съемке, медленнее двигаю руками, мои ноги медленнее отрываются от земли при ходьбе и медленнее ступают на землю, медленнее падает на улицы снег, медленнее развеваются на ходу волосы, медленнее скользят по мостовой отфутболенные окурки, и даже сухая трава на заброшенных путях несчастного вокзала медленнее колышется на ветру. Только на заводе эта всеобщая медлительность куда-то исчезала, хотя рабочее место Ангела было прямо передо мной. Я видела только ее спину, ее вертящийся стул был поднят выше, чем у других, чтобы она могла доставать до зеленого рабочего стола. Зато в общитии я из-за Ангела опять все начинала делать гораздо медленнее. Я шла за ней следом и чувствовала, как даже дыхание мое прямо на глазах замедляется. И даже часы в холле общития тикали медленнее, растягивая вечер до невозможности. Вечер медленно опускался на стулья, ложился на стены. И когда такими вот нескончаемыми вечерами я садилась писать матери письмо, слова тоже приходили на бумагу медленно-медленно, так что я могла хорошенько разглядеть каждое и увидеть, какие они — задорные или грустные, есть ли у них рты, умеют ли они петь, плакать и смеяться, говорить друг с дружкой, дышать и вздыхать, глубоко и легонько, хорошо ли от них пахнет, — и смогут ли они, когда их доставят моей маме, выскочить из конверта и, словно маленькие ласковые зверьки, весело помчаться по ее рукам, плечам и шее.
Читать дальше