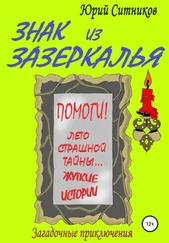Полузамерзшего, его подобрал путевой обходчик. Ваня был в жару. Отвезли в больницу, выходили. Но начался антонов огонь в стопе, гангрена называется, пришлось отнять почти до колена… В больнице было хорошо: все добрые, кормят, по голове гладят, игрушки приносят, а как закончилось лечение и научили ходить с костыликом, тут уж…
Пока лечили, конечно, расспрашивали: кто он, что, как фамилия, где отец, мать. А он что помнил? Свое имя, и что мать, кажись, Марьей звали. И то не сам вспомнил, а когда начали ему имена разные называть — так, мол, а может, так ее величать? Он и сказал, вроде Марья… А отец — он так «отец» и был… И многие, кто выспрашивал, замолкали и не пытали больше про отцовское имя или фамилию. Да он и не знал, что оно такое — фамилия.
Вот… Из больницы-то уходить когда-нибудь надо — сколько можно?.. Это ему потом уже дядя Федор рассказывал. Федор Петрович. Хотели его сперва в детприемник отправить — чтобы в приют поместить. Насчет фамилии долго не думали: Ивановым записали. Иван Иванов — чего еще? Обрядили к выходу: нашлись добрые люди — ботиночки дали, рубашонку, еще что-то. Дело уже к лету было.
Стоит он на своем костылике посреди больничного двора… Помнит: поленница сбоку высокая. Дрова белые-белые, березовые… И подходит к нему нянька-санитарка тетя Ксеня, старая уже, сморщенная вся, и говорит: «Сынок, а сынок? Пойдем ко мне жить? Хочешь?» Он сразу уразумел, о чем речь, потому что спросил: «А мама?» «Я твоя мама, а Федор мой отцом будет… Мы, конечно, немолодые уже, сын у нас в Гражданскую еще убитый, но себя кормим и тебя прокормим…» Может, она тогда и не так точно говорила, но суть такая, и пошел он жить к тете Ксене. Федор Петрович на железной дороге в мастерских работал, слесарем; молчаливый такой человек, хмурый, но непьющий, и если о чем говорит, то больше о Боге, про Библию рассказывает — как там чего. Он ее всю насквозь читал когда-то, и была она у него в доме, а сейчас нету, потому что нельзя — запрещено. Вон и церквы все почти порушили, а то склады в них устроили, гаражи, священников поразогнали, на Соловки отправили… У них в Тобольске, как раз недалеко от рыбстанции, красивая была церковь, благолепная, он помнит. Успения Богородицы. Там теперь склад скобяной. А звонарь бывший, Тихон, сторожем при нем. Тоже безногий, как Иван, но живет на колокольне, потому больше негде. Забирается туда — никто не поверит — ловчее, чем те, кто с ногами…
Как сюда попали, в Тобольск? Это ему тоже дядя Федор недавно рассказал. Ведь жили они под Барабинском… Знаешь такой город, нет? Там Иван от матери и потерялся, и в больницу попал… Отчего уехали? Вроде из-за него — из-за Ивана. Чтобы, значит, не отобрали, в детдом не отправили… Ну, могли, могли, если говорю… хотели… были люди…
Они медленно поднимались вверх от Иртыша, когда Юра спросил:
— Ты в Бога веришь?
Почему задал этот вопрос, он не знал, но что-то в том, как говорил Иван, подтолкнуло его.
— А ты? — спросил тот.
— Я — нет.
Юра не верил в Бога; вернее, никогда не задумывался, есть он или нет, потому что знал, что его нет. Не могли же, в самом деле, находиться на небе старик с белой бородой и ореолом вокруг головы или тот, кто помоложе — с длинными волосами и короткой бородкой? Но в то же время вера никогда не казалась Юре чем-то нелепым или дурным, не вызывала, как у многих, насмешки, злобы, раздражения, неприятия. Ведь сколько людей верило и верит — значит, что-то в этом есть… А когда бывал в церкви — с няней-Пашей, с отцом, иногда один — из любопытства, то всякий раз испытывал легкое волнение, ощущал торжественность минуты, и на это время его неверие и недоверие почти пропадали. Чаще всего заходил в церковь в Богословском переулке, недалеко от их дома, а еще в ту, что в Брюсовском, и в Храм Христа Спасителя на Волхонке, с отцом; тот показывал ему там росписи — кажется, Васнецова; бывал в Иверской часовне у Красной площади; любил бродить по залам бывшего Страстного монастыря, где тогда открыли антирелигиозный музей, но Юру мало затрагивали лозунги — насчет «опиума для народа» или «враждебных действий попов»; он безучастно проходил мимо произведений знаменитых плакатчиков-атеистов — Ганфа, Скаля, Черемныха; его не интересовали брошюры под названиями: «Стройте безбожные колхозы», «Долой кулацко-поповскую пасху», «Нужна ли религия»; его никогда не тянуло вступить в ОВБ («Общество воинствующих безбожников») или стать членом бригады книгонош — распространителей антирелигиозной литературы. Он не задерживался перед грозным призывом: «Каждый должен быть безбожником! Оспаривать это может только тот, кто против диктатуры пролетариата!..»
Читать дальше