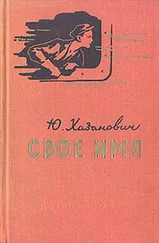И, как те же почти 100 %, он ушёл на войну с Германией, ощутив тогда подлинный патриотический порыв — чтобы защитить родину и добиться лёгкой молниеносной победы с наименьшими потерями. Последние два условия выполнить не удалось, и в этом он винил не себя и не своих боевых сотоварищей, а исключительно начальство. Причём, самое высокое. Однако, естественная осторожность, крепнущая с повзрослением, не позволяла ему заявлять об этом во всеуслышание: ведь о том, что бывало с теми, кто этой осторожностью поступался, он за годы войны много чего наслышался, а кое-что видел и своими глазами.
Взять, хотя бы, тот случай в госпитале в Махачкале, где лежал после осколочного ранения в ногу. В палате у них целые дни бубнило радио, и дикторы хорошо поставленными голосами беспрерывно сообщали о потерях у немцев — в живой силе и технике. А наши в те дни и месяцы всё отступали да отступали. Один из раненых, сержант-связист, пожаловался однажды медсестре: мол, немцы столько уже потеряли, у них ни одного фрица и ни одной винтовки не должно остаться! Почему же мы тогда всё драпаем? А?..
Примерно через неделю дежурный врач сообщил этому раненому, что его переводят в другой госпиталь. Но мы видели: увозят его не санитары в кирзовых сапогах, а какие-то мужики в хромовых. И не в санитарной машине, а в той, какую «чёрным вороном» принято называть. Ну, а потом, по слухам, непроверенным, но точным, стало известно: этого сержанта судил военный трибунал и дали ему десять лет заключения и пять «по рогАм» за клевету на советское Информбюро…
…Воздух пахнет, наверно, весной,
Звонко падают с крыши капели.
Я лежу в одиночке сырой,
Пригвождённый к тюремной постели…
Я лежу, а решётка окна
Режет небо моё на кусочки,
Я лежу, и молчит тишина
Моей узкой сырой одиночки…
Н.Д. (Отдельный лагпункт Кишлы, 1944)
Эти строки В.П. услыхал уже в доме отдыха, лет через пятнадцать после войны, от старого человека, который рассказал ему, что давно собирает стихи, которые писали заключённые наших тюрем и лагерей… Услыхал — и в памяти возник тот самый госпиталь и тот самый сержант, чью фамилию он позабыл, и подумалось, что такие стихи вполне мог бы написать тот парень, если выжил, конечно. Он и тогда, на больничной койке, чего-то сочинял…
И ещё перед глазами В.П. появились ворота немецкого концлагеря для наших военнопленных на окраине Георгиевска, ворота, возле которых после взятия города советскими войсками только охрана сменилась — вместо немцев на вышки влезли наши, а заключённые так и остались: теперь их будет проверять наша контрразведка «Смерш» («смерть шпионам»).
И — вспоминать, так уж вспоминать — память подсказала: город Майсен на реке Эльбе, под Дрезденом. Война только-только окончилась, В.П. попадает на знаменитую фабрику саксонского фарфора, существующую с начала XVIII века. Немцев там, конечно, нет, но, к его удивлению и некоторой радости, он наткнулся на нескольких русских девушек, шикарно одетых, так ему, по крайней мере, с непривычки показалось, и совсем не испуганных, а весьма бойких и приветливых. Это были так называемые перемещённые лица, и они работали тут уже несколько лет у немцев. Поскольку в эти победные дни воинская дисциплина заметно ослабла, старшина В.П. и несколько его однокашников могли позволить себе незамедлительно, здесь же, в директорском кабинете, уставленном драгоценными фарфоровыми изделиями, бурно отметить победу и встречу с соотечественницами. Он плохо помнил, как попал обратно в расположение своей части, однако всё закончилось благополучно. Для него, но не для девушек: уже через пару дней до них добрались полковые «смершовцы», и от их «шикарных» нарядов и счастливых лиц остались лишь воспоминания. В.П. узнал об этом, когда его вызвали в «смерш» и попытались сделать чуть ли не очевидцем того, как «эти немецкие подстилки продавали родину и свою девичью честь». Однако ему, и его напарникам, удалось отбояриться: они без особого труда убедили смершовского косоглазого капитана — в сущности, славного малого, к тому же, не дурака выпить, — что подрывной деятельности девушек они видеть никак не могли, а что касается девичьей чести, то было, чего уж тут… Только её совсем не продавали и не покупали, а исключительно по доброму согласию… Но девушек, всё равно, замели…
После демобилизации В.П. снова пошёл учиться — только не в Нефтяной, куда поступал ещё перед войной, не имея ни желания, ни способностей становиться инженером, а в Университет на филологический. Он ощутил — так ему, по крайней мере, стало казаться — острую потребность не только читать написанное кем-то, но и писать самому, а для этого, решил он, нужен толчок — нужно познакомиться с основами литературы как средства постижения действительности и выражения человеческого сознания, а также формирования художественных образов — и всё это с помощью слова. (У него издавна была тяга к наукообразному толкованию терминов и явлений.)
Читать дальше